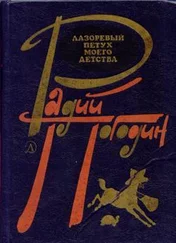Но тут громкие рыдания, причитания прервали его. В дверях показалось траурное шествие. Четверо ближайших друзей, осторожно нашаривая ногой первую ступеньку лестницы, вынесли гроб. За ним следовала целая толпа плачущих женщин — служанок и соседок. Они причитали хором:
— Прощайте, сеньора Кандинья, прощайте… Ах, сеньора Кандинья, никогда больше не вынесу я вашу качалку на солнышко… Ах, сеньора Кандинья…
В окнах соседних домов появились женщины с красными заплаканными глазами, по щекам их текли слезы.
Траурная процессия двинулась вниз. Не успели мы сделать и трех шагов, как послышался горестный и неутешный вопль, вырвавшийся, казалось, из самых глубин чьей-то души. Этот вопль начинался как сдавленное рыдание, сквозь которое пробивались всхлипывания — они следовали одно за другим, нарастали и превращались в долгий глубокий сверлящий стон, от которого мы все содрогнулись: в нем чувствовалось истинное и искреннее страдание, не вязавшееся с обыденностью этого знойного утра. Я повернулся, чтобы узнать, кто же так скорбно оплакивает сеньору Кандинью, и увидел женщину, отпрянувшую от окна. Однако я успел узнать Ману, крестницу покойной, — в свое время она испортила сеньоре Кандинье немало крови.
— Чего уж теперь? Теперь можно и не рыдать! Притворщица! — прошептал Норберто.
Мы продолжали спускаться. Впереди широким шагом шел священник; служка звонил в крлокольчик, и этот звук казался нам жалобным детским голоском. Следом несли гроб. Наша группа шла немного в стороне.
Толстая, широкобедрая мулатка, хозяйка таверны, застыла в дверях своего заведения, не спуская больших печальных глаз с похоронной процессии, шепча что-то невразумительное. Норберто тут же пустился в воспоминания:
— A-а, это Мария-Жулия… Миновало твое времечко… Вот ты какая стала… Кто теперь поверит, что стройней тебя не было женщины в Сан-Висенте?! А какая у тебя была комнатка, какая чистота! Какие белоснежные простыни на твоей кровати! Куда все девалось?!
Марио Диас лукаво покосился на него:
— Норберто, ты что-то слишком сильно горюешь… Не бойся, мы и так поверим, что она принимала тебя по-королевски.
— Знаете, что я слышал от одной дамы? «Норберто, — сказала она, — медленно разгорается, зато долго горит». Поняли? — вмешался я, а Норберто, давно уже огрузневший и ссутулившийся, издал какой-то горловой звук, который должен был означать смешок.
Жара становилась невыносимой — должно быть, собиралась гроза. Огромная черная туча закрыла солнце и повисла над самыми нашими головами, окутывая нас душным маревом. Норберто расстегнул свой пиджак из толстого сукна — его рубашка на груди насквозь промокла от пота — и помахал полами на манер вееров.
— Ох, не могу!
— Невыносимая жара! — поддержал его Аннибал.
— Может, кто-нибудь объяснит мне, какого дьявола Абель решил назначить похороны бедной Кандиньи на такое время?! Ведь тут же можно заживо свариться! Не говоря уж о том, что многих не отпустили со службы. А что, если он хотел, чтобы за гробом его тетки шла кучка полудохлых от зноя людей — чем меньше, тем лучше?!
Кто-то поинтересовался, многие ли дойдут до самого кладбища.
— Не знаю и знать не хочу! — ответил Аннибал. — Лично я пойду только до церкви: я считаю, что мой долг перед покойницей исполнен. Больше не выдержу. Сейчас печет солнце, а потом станет очень сыро. После обеда я ложусь в постель, закрываю окна, на грудь кладу льняную салфетку, смоченную йодом, — и все равно от лихорадки не уберечься. Того и гляди — грипп, да еще с осложнениями.
Мы были уже неподалеку от церкви. Норберто принялся высчитывать возраст сеньоры Кандиньи.
— Ей исполнилось бы… Погоди, погоди… Она вышла замуж в тот год, когда умер Жоан Розинья. Сколько лет прошло, Марио?
Марио, шедший впереди, обернулся. Губы его раздвинулись в улыбке.
— Не знаю. Меня тогда и в помине не было.
Гроб внесли в церковь, и вскоре оттуда донеслись звуки заупокойной литании. Мы все остались снаружи, пытаясь спастись от зноя под навесами, которые давали узкие полоски тени. Начались разговоры. Я отошел в сторонку.
Так сколько же лет было сеньоре Кандинье? Я и не знал. Когда я стал понимать что к чему, мамы уже не было в живых. Кандинья очень любила ее, относилась к ней как к старшей сестре — преданно и почтительно, они были закадычными подругами. Она восхищалась ею. Детей у Кандиньи не было, и после маминой смерти она всю любовь перенесла на меня.
Если к ней приходили гости, она всегда представляла меня, неизменно говорила, какой я ласковый и добрый мальчик, повторяла мои смешные детские словечки, гордилась моими успехами в ученье: моим учителем был сеньор Гильерме Араужо — равного ему не было в Сан-Висенте, если не считать падре Клеофаса, но ведь падре никогда в жизни не преподавал, а сеньор Гильерме по праву гордился своими учениками. Кроме того, падре был человеком крутого и вздорного нрава, он переселился в Ламейран и с каждым днем все меньше времени уделял науке. Так вот, Кандинья твердила всем, что сеньор Гильерме очень мною доволен и говорит, что, если все пойдет по-прежнему (случается ведь, что дети ни с того ни с сего становятся неузнаваемыми), первый экзамен я сдам шутя.
Читать дальше
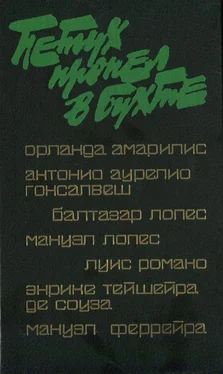

![Олег Петухов - Инсценировка трагедии. Сборник [СИ]](/books/29818/oleg-petuhov-inscenirovka-tragedii-sbornik-si-thumb.webp)