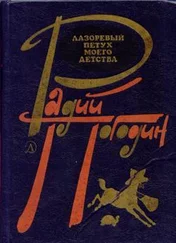— Ух ты! — удивилась она и, повернув голову, взглянула на Эсколастику. — Ты все еще здесь, негодница! — Прут из айвы лежал на подоконнике, стоило только руку протянуть. Схватив его, нья Тотона принялась угрожающе им размахивать. — Хочешь, чтобы я вздула тебя с утра пораньше, этого добиваешься?
Эсколастика не очень-то испугалась. По крику матери она научилась различать, когда нья Тотона действительно собиралась ее наказать, а когда просто стращала. Она раскрыла дорожную сумку с едой, окинула быстрым внимательным взглядом початки кукурузы и куски крутой маниоковой каши, вновь завязала сумку шпагатом и положила ее в большую корзину между двумя полосками лыка. Приподняла указательным пальцем маленькую корзину, чтобы определить, насколько она тяжелая, и поставила ее обратно. Затем взяла блестящий, будто полированный, сосуд из выдолбленной тыквы, напоминающий восьмерку, не раздумывая, сорвала с кровати застиранную холщовую тряпку, служившую покрывалом, схватила кусок домашнего мыла, который извлекла из щели в стене, и вихрем метнулась к выходу. Нья Тотона слышала, как затихают вдали торопливые шаги дочери. «Не стой я у тебя над душой, ничего путного из тебя бы не вышло», — раздраженно проворчала она. Трубка запыхтела и погасла, старуха поднесла ее к пламени свечи, которое снова еле теплилось. Фитиль был почти такой же толстый, как и свеча, и, казалось, обладал способностью двигаться, более проворный, чем побег растущей на берегу ручья банановой пальмы. Нья Тотона затянулась раз, другой, сплюнула, потушила свечу, и предутренний мрак поглотил ее. Она как бы застыла на месте, нахохлившись, точно курица на яйцах. Такая уж была у нее привычка. Руки сами собой принялись поглаживать и почесывать тело, тычась в него пальцами-клювиками, словно притихшие и сонные цыплята. Она спрятала их под мышками, по-матерински пригрела и приголубила, вобрала голову в плечи и задремала.
Кратчайшая тропинка к ручью была предательски скользкой. Она спускалась почти отвесно, камни уходили из-под ног, скатывались к гранитному парапету и падали с пяти-шестиметровой высоты вниз, на каменистое ложе реки. Только отлично зная дорогу, можно было пройти там босиком. Обычно на это отваживались лишь те, кто очень спешил, у кого были крепкие, сильные ноги и козья сноровка лазить по горным кручам. Эсколастика скакала как коза, ноги у нее были крепкие, и к тому же дорогу к ручью она знала как никто другой.
После нескольких опасных поворотов тропинка шла по самому краю обрыва, а потом устремлялась вниз по теснине, которая образовалась в скале в результате эрозии и была настолько узкой, что приходилось цепляться руками за выступающие глыбы камней, скользя вниз, пока тропка не выводила к протоке. Эсколастика пробиралась почти на ощупь. Со дна ущелья тянуло холодом, лишь порывы ветра нарушали мертвое молчание бездны; темнота казалась непроглядной, равнодушный свет мерцающих звезд сюда не доходил, и легкий ветерок не мешал ночному сну деревьев. Эсколастика остановилась, чтобы перевести дух, непонятная тоска овладела ею. Она прислушалась, различила где-то вдалеке едва уловимый плеск воды, падающей сверху, и шум напомнил ей доверительный и спокойный голос друга. Когда она снова пустилась в путь, камень, на который она неосмотрительно оперлась, выскользнул и покатился вниз, увлекая за собой другие, с грохотом, который заставил ее оцепенеть. Эхо ударилось о противоположный берег ручья и возвратилось назад, как волны прибоя.
Нет, это был не страх. Скорее какое-то смутное беспокойство, безотчетная тревога. Или — кто знает? — боязнь чего-то нового, еще неведомого ей, связанного каким-то образом с ночной тайной темных деревьев у ручья. А может быть, она просто устала и нервы сдали. Широко раскрыв глаза, Эсколастика продолжала идти. Ей следовало поторопиться, потому что путь до Порто-Ново предстоял неблизкий, а в небе уже проглядывали светлые полоски занимающейся зари. Эсколастика чувствовала себя разбитой, она плохо спала ночь — чего с ней еще никогда не случалось, — но все же продолжала идти. Скоро они встретятся с Жоаниньей.
Ах, как нравились ей эти долгие переходы вместе с разговорчивой дочкой ньи Аны! Слушая болтовню подруги, она и не замечала, как километр за километром остаются позади. Пока они шли по нескончаемым дорогам острова, Эсколастика казалась себе свободной, жизнерадостной, беззаботной, точно выпущенная в поле коза; если ей хотелось немного отдохнуть в тени деревьев или отвесных скал, она останавливалась, отпивала глоток воды из висящего на поясе сосуда, подкреплялась ломтем хлеба, и какое это было счастье, что за ней не следило зоркое, неустанное око матери, которая оговаривала каждый ее шаг, скрежетала зубами от злости, стегала ее по спине айвовым прутом. До чего же хорошо побыть на свободе хотя бы несколько часов! С восхода и до заката шагали они по проселочным дорогам и узким тропам, по заросшим кустарником берегам ручьев, по бескрайним равнинам и голым плоскогорьям! Не беда, что целый день приходилось идти с тяжелой корзиной на голове. На душе было так легко, и сердце в груди пело от радости. Когда они прибывали на место, Эсколастика старалась как можно скорей выполнить материнские поручения. Подружки посмеивались над ее усердием: «Передохни немножко, глупенькая. У кого нет терпения, не будет и умения». Она не глазела разинув рот на витрины магазинов в Порто-Ново, как делали это другие, хотя и ее привлекали выставленные там красивые товары. Цветастые платки, амулеты, стеклянные ожерелья на любой вкус, хорошенькие четки с позолоченными и посеребренными бусинами, яркие, блестящие ленты, ткани разнообразных расцветок, всевозможные зеркала. Она никогда не простаивала подолгу у витрин. И всегда торопила товарок, отчего они порой приходили в неистовство. Шум морского прибоя, уличный гам и суета, цоканье лошадиных копыт по мостовой, толкотня на пристани оглушали Эсколастику, ей становилось не по себе. Ее пугали грубые шутки парней; Жоанинья — та вела себя с ними совсем по-другому: упершись руками в бока, она поддразнивала их, никому не давала спуску, и всегда у нее был готов ответ зубоскалам из Порто.
Читать дальше
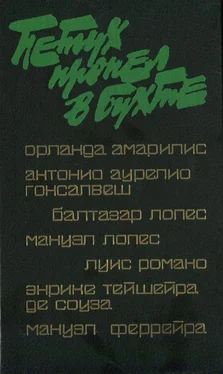

![Олег Петухов - Инсценировка трагедии. Сборник [СИ]](/books/29818/oleg-petuhov-inscenirovka-tragedii-sbornik-si-thumb.webp)