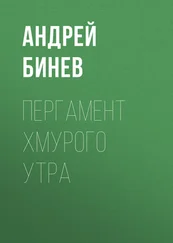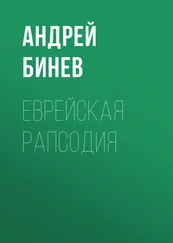Его давила собственная беспомощность, которая в своей многомиллионной сумме порождала чудовищную силу. Он впервые ужаснулся тем, что являет собой крошечный живой узелок в огромном бесстрастном и бесцеремонном организме, для которого есть лишь одно веление: быть единым слитком и противостоять другому такому же организму с беспощадной жестокостью и силой. Война диктовала это так властно, так повелительно, так императивно, что любое неподчинение этому немедленно становилось величайшим предательством, непростительной слабостью, и вело к тому, что весь тот организм, в который он влит, будет раздавлен другим, враждебным, а тому была чужда милость и сострадание. Годы войны доказали это бездонными реками крови и нечеловеческой боли.
Но все же маленький, слабенький росточек внутри его сознания требовал понимания и сострадания, без которого любая героика войны становилась лишь варварской кровавой бойней, забывшей, кто начал первым, кто был изначальным изувером. Это терзало его, это вдруг и выдавило из горла рыдания, а из глаз обидные слезы, точно он был оскорблен невозможностью противостоять несправедливой казни.
Он долго не мог разговаривать с Куприяновым. Тот понимал и угрюмо молчал. Только недели через две все сгладилось. Все же то была война, тяжелая и кровавая, и тут отдельные смерти, тем более, формальных врагов, не запоминались. Да и ссориться из-за них со своими, да еще в разведвзводе, было делом крайне опасным.
Солдаты не собирались прощать немцам тяжелых боев сорок первого и сорок второго – Москву, Сталинград… В батальонах тогда порой оставалось меньше человек, чем должно было быть в отделении. Убитых на скорую руку закапывали в неглубоких воронках и тут же забывали места захоронений. Павел в те дни большей частью был в Москве, но те, кто сейчас находился рядом ним, помнили все до мельчайших подробностей и мстили так, как на войне может мстить только солдат, униженный памятью о жестоких, несправедливых потерях.
Теперь Павлу, почти забывшему то, что случилось с майором и гауптманом, вновь казалось, что и он выжил только для того, чтобы мстить, пусть даже, порой, несправедливо (!), потому что именно эта святая несправедливость и наполняет человеческим, греховным в иных обстоятельствах, но безупречным сейчас, смыслом величие мести. Будь она всегда «справедливой» в пользу врага, так какая у нее тогда была бы связь с обезличенной, душераздирающей болью, причиненной его народу, на чем бы покоилась святость идеи мести? Жизнь за жизнь! Око за око! Любые жертвы от противника! Лишь бы не оказаться неотомщенными!
Павел стыдился вспоминать те свои рыдания и слезы над телами врагов, и он утешал себя лишь тем, что устал тогда от бессонницы и холода и что все перепуталось в его по обыкновению ясной голове. Но все же тот самый, несмелый росточек сострадания, лукаво прячась от всего организма, упрямо жил в нем.
…Среди привезенных им в штаб армии на «студебеккере» были те же Павликов и Темирбаев. И еще восемь солдат – возрастом от двадцати одного до сорока двух лет.
Двое из них – бывшие студенты-падагоги из Ленинграда. В мирные времена всерьез увлекались французской классической борьбой, даже когда-то были чемпионами по области, каждый в своем весе. Старшим по возрасту из них был Юра Креповский. Он хорошо говорил по-немецки – мама была учительницей немецкого языка в школе, а дед даже как будто ученым, чуть ли не академиком по средневековой немецкой литературе. Второй, младший, Ваня Крашенинников, этот рос в детдоме. Я, говорил он, посмеиваясь, неизлечимо везучий. Наш детдом дважды горел от какой-то шалости. Столько названных братиков моих и сестричек погибло! Ужас! А я даже не закоптился ни разу. Вот какой я! Ни черта меня не берет!
Еще двое – двоюродные братья из Курска, Петя Климов и Клим Климов. Оба шоферы, оба неизлечимые заики, оба женаты на двух двоюродных сестрах, и обе эти сестры – медички. Их, этих курян, так и звали во взводе «Два-Климов-Два». Они даже письма писали одновременно своим женам-медичкам – Кате и Люде. Все знали, как их зовут, этих двух толстушек. Ценны для разведки Климовы были тем, что тот и другой фантастически метко стреляли из любого оружия. Ни одного промаха, ни одного пустого выстрела. Потому что не болтают, смеялся Куприянов, заикаются слишком. До войны оба занимались спортивной стрельбой. Рассказать толком о себе ничего не могли. Терпения выслушать их ни у кого не хватало. В мирное время таких упрямых заик ни за что бы в армию не призвали.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу