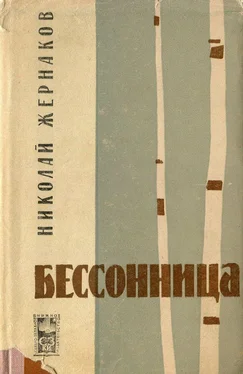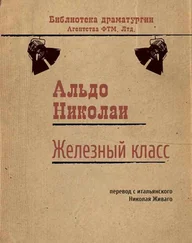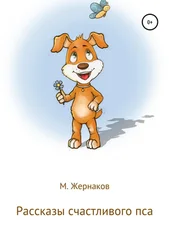Странно… Именно такие же мысли возникли у Федота, как глянул он впервые на старую дорогу. Правда, межи все и ненужные дороги перепахал — колхоз, а не совхоз, но Федоту стало обидно почему-то, что уже нет колхоза. Тридцать с лишним лет был — и нету.
— Так жалко, говоришь, стало?
Пантюха почесал по привычке в затылке:
— Вообщем привели к такому знаменателю: для чего, дескать, нам совхоз? Доведите, мол, нам колхозную жизнь до уровня. К чему нам ринтабельность? Жили, мол, без нее и дальше проживем, только землю, мол, надо заставить урожать, как прежде она урожала. А мы-де от колхозу не отказываемся.
Пантюха помолчал, собираясь с мыслями. Потом продолжил:
— А после всяко выступали, к примеру, о целине. Дескать, вовсе доруководились. Свою — домашнюю целину в ногах топчем… На заимках у нас шестьдесят га, да в Запольках поболе ста под кустарником. А мы в сельповской лавке государственный хлебец-то берем и для себя, и для скотины… Рожь нонче перестали сеять. А она, рожь-то, на Двине бывало урожала хорошо. Ну, поговорили этак-то и осерчали, конешно.
— Кто осерчал?
— А этого я не знаю, кто. Только многие осерчали, пока приобыкли в совхоз на работу ходить.
Пантюха замолчал, задумался. Федот же почему-то живо увидел перед собой сухое обветренное лицо матери, ее высокую фигуру. Все свои зрелые, все пожилые годы она отдала земле. Нельзя было представить мать отдельно от Кузоменского колхоза.
Сердцу в груди Федота стало тесно. Давно оторванный от деревни, он ощутил вдруг столь неожиданную тоску по ней, по всему привычному когда-то колхозному укладу жизни.
«Ну, а что в совхозе плохого? Та же земля и те же мужики… Откуда эта обида за мать, будто у нее на старости отняли что-то дорогое?»
Пантюха шел рядом, задумчиво опустив глаза. Казалось, он-то уж знает о жизни что-то важное, недоступное Федоту. И жизнь матери как-то лучше воспринималась рядом с Пантюхой Рябым. Ведь и Пантюхина жизнь до войны и после нее проходит в родной деревне.
Пантелей Пестов женился рано, на войну уходил от молодой жены и ребенка. С фронта писал письма, пропитанные тоской по дому, по своей молодухе.
Красивая, но, видать, легкомысленная бабенка, уже со второго года солдатской службы мужа спуталась с одним из «тыловых».
Односельчане молчали, не писали Пантелею: зачем мужику рвать сердце? Жена тоже помалкивала, рассуждала по-своему: «Отвоюется да вернется ежели живой — по-старому будем жить. Авось простит, война ведь».
Ранило его за день до Победы. Фугасной волной бросило в лицо горячую пороховую гарь, осколком попортило шею. Приехал в Кузоменье кривошеий, со страховитым рябым лицом солдат. Хватился жены — нет ее: уехала со своим любезным неизвестно куда.
Дико запил Пантелей. Потом ринулся на поиски, нашел-таки жену где-то на юге, да не вернулась обратно. Даже сынишку — как ни просил — не отдала непутевая баба.
Вернулся домой Пантелей, кое-как стал работать в колхозе, но пить уже не бросил. А когда пьянству не стало предела, когда сделался неразборчив: где свое, где чужое, — тогда не стало у него и имени. Еще пожилые могли ответить, кто такой Пантелей Саввич Пестов, а молодые кузоменцы только пожимали плечами.
С детства и до сорок первого братья Кокорины дружили с Пантелеем. Рос он круглым сиротой, жил у неродной тетки. Отец Пантелея погиб в интервенцию на «острове смерти» Мудьюге, мать схоронили в голодный двадцать первый год.
Федот хорошо помнил своего отца, особенно по двадцать девятому году, когда в избе Кокориных частенько собирались мужики и много спорили, стараясь понять, что их ожидает в артельной жизни. Митрофан Кокорин был первым застрельщиком при создании колхоза в Кузоменье.
Мать упорно сопротивлялась. Ребята не раз слышали, как она «пилила» отца: «Одумайся… Только обзавелись коровой, только жить начали — и все отдай. Опомнись, отец!»
Но отец настоял на своем, и повели в общий хлев корову Буску (дома оставили стельную телушку), повели Карего… Отец уложил в телегу плуг, борону, грабли, вилы, да сверху еще хомуты, дуги. Позади телеги за оглобли были прихвачены чересседельником дровни, а на них привязаны «коробки» — маленькие выездные сани, расписанные веселыми цветочками.
Самому хозяину сесть было некуда. Он вел Карего под уздцы, шагал серединой дороги, не глядел на ее густо замешанную осеннюю грязь, а все смотрел прямо перед собой, туда, где у артельной конторы — отобранного у кулака дома — гомонил народ.
Читать дальше