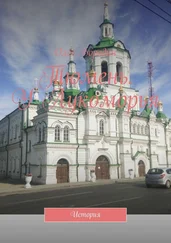Во время съездов и съемок неделями я жил в Москве, в нашей пустой и тревожно-грустной квартире.
Никогда не ласкал собак, не почесывал Бима за ухом, да он бы и не позволил подобной фамильярности. Отношения были чисто мужские, сдержанные.
Подкармливал их, чем мог. В бывшем магазине «Центросоюз» иногда выбрасывали ужасные котлеты – больше ничего не было на прилавках, а эти котлеты – человек съесть их просто не мог, серо-зеленые какие-то… Из чего они были сделаны? Но на абсолютно пустом прилавке лежали только они, я брал штук десять – двадцать и давал собакам. Они привыкли ко мне и всегда приветствовали, подбегая и махая дурацкими своими хвостами. Так продолжалось два года.
И вот съезд был распущен, съемки закончены, и я прощался с Москвой, с квартирой, звенящей и гулкой от пустоты…
Понимал, что уезжаю надолго и что этот период зыбкой близости с прошлым закончен навсегда.
Пошел к мяснику в магазин. За две пол-литры, которые удалось достать случайно, он продал мне два кило вырезки из своих секретных запасов. Нарезал вырезку на много-много кусков.
Уезжая, я взял вещи, запер двери и вышел во двор. Собаки подошли.
Я протянул Биму ладонь, на которой лежал кусок вырезки граммов сто. Бим понюхал. Отошел и вопросительно посмотрел на меня. «Ешь, Бим, ешь!» Он осторожно взял с ладони мясо. Не глотал. Держал в зубах и глядел на свою стаю. На Бэллу. Я протянул и Бэлле кусок. И щенкам. Бэлла и дети стали есть.
Тогда и Бим проглотил невиданное лакомство.
Я еще и еще давал ему мясо. И Бэлле, и щенкам. Наконец мясо кончилось. Бим посмотрел вопросительно. Я показал Биму пустые ладони. Бим постоял, потом подошел и ткнулся мягким своим носом мне в колено и постоял так минуты две.
Оглядел я мой остывший, холодный двор, вдохнул родной аптечный запах.
Посмотрел вверх, на голый пустой балкон черной лестницы, с которого мама когда-то, провожая меня, махала мне рукой… Посмотрел на Бима… на собак… Они вильнули хвостами…
Я сказал им: «Пока!» – и пошел на вокзал.
Больше я их никогда не видел.
…Недавно смотрел передачу по «Культуре». Молодой режиссер, стройный, белокурый, волоокий, с тонкими запястьями, элегантно закинув ногу на ногу, довольно интересно рассуждал о себе, о театре, об архаичности прежнего театра, о поисках новых форм, режиссуры, о своем понимании современного театра.
Об отвращении к терминам Станиславского: «задача», «сверхзадача», «событие», «предлагаемые обстоятельства» и т. д. То есть к главному, что составляет актерскую профессию… Гладко говорил, образно, где-то даже позволяя нам, слушателям, любоваться его логикой, начитанностью, образованностью… Речь плавная, отличный русский язык, четкое логическое построение.
Я видел его спектакли.
Впечатление гнетущее.
Отчего такое недоверие, я бы даже сказал – ненависть к актерам, к их попытке понять особенности своего персонажа, его цель, его понимание жизни и смерти?! Нет, все заменено техникой (надо сказать, очень-очень четко, профессионально, точно построенной), шумовыми и музыкальными взрывами, телеэкранами, бешеной скороговоркой, гомосексуалистами и лесбиянками…
«Бедные обманутые актеры, – думаю я. – Ведь каждый из вас мог бы замечательно сыграть трагедию своего персонажа – я ведь знаю вас: все вы очень! очень талантливы! Я ведь помню вас по другим спектаклям!»
Плавно и элегантно льются слова, мелькают термины: «амбивалентно», «метатекст»… Мы любуемся пластичностью его речи, его образованностью.
Возникнет ли благодаря его стараниям театр, вознесясь на новую, современную ступень? Нет. Не возникнет. Останутся обуглившиеся руины, как после атомного взрыва в Хиросиме.
В муках рождается новый театр… Да полно, новый ли?
Да, в «Евгении Онегине» у вахтанговцев черт-те что: Ольга с аккордеоном, манерно-условные движения актеров… Ну, думаю, началось!..
Но нет, нет… Постепенно, шаг за шагом условно-формальная атмосфера завораживает меня, настраивает на свой, единственно возможный лад, и я не могу сдержать рыданий счастья, когда Татьяна, впервые ошеломленно открыв в себе неведомое ранее чувство, счастье любви, любви, озарившей нежданно-негаданно душу деревенской девушки, – ослепленная этим чудом, швыряя свою девичью постель (!) по сцене, рвет мне сердце бесстыдной правдой:
– Я к вам пишу – чего же боле?..
И это – подлинный Пушкин, его сердцевина, до которой, читая «Онегина», не всегда, вернее, почти никогда, мы не докапываемся…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу