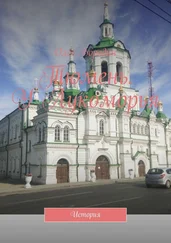Глаза у Ивана горят, взор страдальчески обращен на меня, будто я вместе с каким-то древним греком родил эту псевдоистину о человеке… Голос его дрожит, глаза наполнены влагой… худой… коричневый какой-то.
Вчера мы с ним в столовой беседовали о демократии, о том, как алчность человеческая губит, словно яд, все вокруг…
Вот он – не здороваясь, сходу – ворвался ко мне и:
– Человек – мера всех вещей? Ха-ха! Вот, вот главная ваша ошибка, преступление. Какие такие «права человека»? Какие независимые суды? Суд один – Божий! Все воздастся там! Понимаешь? Там! Истина Божья, словно древняя фреска, спрятана за вековыми наслоениями, за гнилой штукатуркой. Она одна – истина!
– …Но постараться найти правильный путь к этой истине кто-то может? Попробовать отколупнуть эту гнилую штукатурку, а? Разве это грех? Попробовать приблизиться к истине – грех?
– Вот! Вот! Это грех, грех, Олег! Никому не дано право вмешиваться или влиять на волю Божью! «Мне отмщение, и Аз воздам», Аз! Понимаешь? Я, я воздам. Не грех даже, а преступление. Посмотри, куда катится мир, посмотри хотя бы на эти самодовольные хохочущие рожи у телевизора! Это они – мера всех вещей?! Одумайтесь!
– Так надо, наверное, пытаться…
– Ничего не надо. Все от Бога. Все в Его воле, любая попытка – грех. Великий грех. Ну, прости, что…
Уходит.
– Нет… Не могу больше… – простонал в тропической мгле тон-студии на «Мосфильме» тогдашний народный депутат России, член комиссии по культуре, а ныне руководитель Федерального агентства по печати и средствам массовой информации Михаил Вадимович Сеславинский.
– Не могу. Я, пожалуй, пойду!
– Нет уж, Михаил Вадимович, нет… Смена у нас сегодня до двенадцати, так что сидите.
Сегодня в нашей комиссии по культуре Верховного Совета России мы обсуждали проект указа, который после его утверждения должны были направить на подпись Ельцину, указа, в котором шла речь о детских дошкольных учреждениях для детей членов творческих союзов, о том, что, несмотря на инфляцию, ежемесячный рост цен, на все и вся, плата за одного ребенка не должна расти, напротив, она должна оставаться на определенно низком уровне.
Работники культуры, а если по-человечески – артисты, писатели, музыканты, художники, при постоянной их нищенской зарплате в условиях инфляции просто попадали бы в безвыходное положение: цены растут безумно, зарплата – мизерная, и говорить об устройстве ребенка в ясли или в детсад – бессмысленно. Нет денег. Ловушка. Допустим, одинокая мать-актриса должна сидеть с малышом дома, ибо оплатить детсад не может, и теряет работу, теряет профессию, теряет свое место. Казалось бы, все ясно, надо хоть как-то помочь.
Но тут возник Сеславинский:
– Извините, я против этого указа.
– Почему?
– Хорошо, мы заморозим, допустим, плату в детсады для творческих работников и в ясли, но почему только для них? А как быть с шахтерами? Как я им в глаза посмотрю? А ведь шахтерских труд – тяжелейший труд! Скорее уж надо замораживать плату для детей шахтеров! Или там машинистов! А крестьянский труд? До кровавых мозолей? Куда там музыкантам, артистам.
– Но мы с вами члены комиссии по культуре, значит, должны в первую очередь думать о своих. Вы что же, считаете актерский, допустим, труд значительно легче труда шахтеров?
– Да, несомненно.
– Хорошо. У меня сегодня озвучание на «Мосфильме», – говорю я. – С четырех до двенадцати, восемь часов. Хотите посмотреть на наш труд? хотите? Поедем вместе на озвучание.
– О да! С радостью, если позволите, я поеду с вами. Никогда не бывал на киностудии.
Ровно в половине четвертого сели мы в машину, приехавшую за мной с «Мосфильма», своей машины у комиссии по культуре не было, как, впрочем, и многого другого, и тронулись в путь. Недолгий путь, от Белого дома по набережной на Потылиху, минут пятнадцать езды.
О! Я предчувствовал победу. Я знал, что Сеславинский попросит пардону, не выдержит. И дело не только в детских учреждениях творческих союзов, тут я во многом понимаю его: любая работа трудна. А дело в том, что очень хотелось, чтобы образованный, начитанный, интеллигентный человек, несмотря на вышеперечисленные качества, считающий актерскую работу почти развлечением, этакой полькой-бабочкой с притопом на солнечной лужайке, кожей бы почувствовал весь ужас и губительность этого занятия – актерства. Пусть, думал я, постоит восемь часов у микрофона, пытаясь бесконечное количество дублей попасть в синхрон, то есть чтобы артикуляция твоя на экране совпала бы с твоей нынешней, которая возникает у тебя во время твоих попыток тридцать, шестьдесят секунд сыграть то, что уже сыграно во время съемки, и не ухудшить, а может быть, и улучшить то, что делает на экране артист Басилашвили… Бесконечное количество дублей, тьма в павильоне, миллионы раз скачущая перед глазами сцена, яркая подсветка снизу на бумагу с текстом… Вот как это постоянно происходит.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу