— Мне стыдно быть братом слабого, — говорил Амон. — Думаешь, мне не обидно слушать, как все кричат, толкая тебя к воротам: «У маленького имама зуб шатается, у маленького имама штаны лопнули!» Хочешь к нам в компанию? Мы бегаем к бане, и сзади, где поваленный забор, есть дырочка на мутном стекле, и мы смотрим, как купаются женщины…
Душан не понимал, что в этом интересного — подглядывать тайно, как купаются женщины, зато он видел, что, если учащийся приводил на пустырь своего младшего брата или соседского мальчика, еще не доросшего до школы, младший во всем ему прислуживал, бегал за водой, лез на тутовое дерево за ягодами. Ничего, правда, нет дурного в том, чтобы сбегать домой за водой для брата, но ведь это непохоже на простую любезность, старшие говорят грубым, небрежным тоном, желая показать свою власть. А как можно быть подчиненным в одной компании, если в другой тобой нередко восторгаются?
Смотреть же на женщин в бане — запретно, непристойно. Разве может это зрелище купальщиц так взволновать, как слова женщины, которую Душан уже несколько раз видел на, улице. Когда он поливал вечером возле дома, чтобы было прохладно, эта женщина в зеленом платье долго смотрела на мальчика, и мальчик почувствовал, что нравится, — и сказала: «Жаль, ты не мой брат, я бы тебя очень любила…»
Душан от смущения зашел в дом, зато в следующий раз выдержал, когда увидел, что идет она издалека, сделал спокойное и нарочито равнодушное лицо в ожидании встречи много раз учился этому выражению перед зеркалом, — а женщина улыбнулась, и Душан потом долго смотрел ей вслед, жалея, что у нее нет брата.
Сколько трепетного в этой его тайне: «Жаль, ты не мой брат, я бы тебя очень любила» — об этом никто не знает, кроме него и женщины, грубо не шутят, не смеются, и это ожидание ее у ворот и ее взгляд — все можно беречь от пробуждения до сна, жить со всем этим, забывая обиды.
Странное чувство к прохожей женщине, и не столько к ней самой, сколько к сказанному ею, не давало уснуть; летом его кровать была вынесена на верхнюю площадку двора, и Душан пытался отвлечься, думая о том, как непохожа тень луны на тень солнца днем, — ему казалось, что вместе со светом луна посылает и свою тень, и она ложится, зацепившись за листья виноградника или за ставни, а потом улетает, снятая дуновением прохлады, — и тогда кровать открывалась для тревожного и неуютного света, и когда мальчик не успевал заснуть в спокойной и мягкой тени, знал, что прозевал свой час, и теперь, если бабушка не примет его к себе в постель, не уснет до рассвета. Тень луны синеватая, густая, можно просунуть в нее руку и не увидеть ее, и рука будет пахнуть пыльцой, солнце же стоит и само сжигает собственную тень, оставляя лишь слабое ее отражение, и, когда днем бежишь по улице, хрустит соль во рту, будто тень, которую сожгло дотла солнце, была соленая. Луна всегда живая, торопится, забирая с собой тень, солнце же может стоять на одном месте с утра до вечера, потом неожиданно скатиться, но, если луна не выйдет и не уйдет, раздаривая прохладу, не взойдет и солнце, безжалостное и терпеливое, — Душан хорошо понял.
Все это заботило его и в ту ночь, когда он лежал и не мог вспомнить, куда спрятал свою старую копилку–черепашку. Думал с вечера положить к себе под кровать, чтобы утром, сразу после сна, вынести черепашку за ворота, где его будет ждать мальчик, такой же глупый, как Душан тех времен, когда страстно копил он монеты. Мальчик этот после лихорадки сидел у своих ворот, желтый и тихий, и, чтобы как–то взбодрить его, Душан сказал, что подарит ему копилку, а когда желтый на минуту посветлел, а затем опять притворно заскучал, сказав, что копилка без монет все равно что живот без еды, а родители его люди жадные, Душан пообещал тихому, что если достанется ему за что монета, не истратит, a принесет в его копилку, — плут тогда согласился.
«Она лежит, наверное, в правой нише летней комнаты», — подумал Душан и решил сейчас же принести ее, чтобы спокойно уснуть. Но не так–то просто пробраться сейчас к летней комнате, и, хотя окна ее выходят сюда же, на верхнюю площадку, где спит Душан недалеко от кровати бабушки и матери, чуткая бабушка может проснуться от его нечаянного шороха и вскрикнуть — ужас, ей покажется, что, поставив с улицы на стену длинную лестницу, прыгнули к ним во двор ночные воры в ватных сапогах, — испугается не только мама, вторя голосу бабушки, проснутся отец и Амон спящие на нижней площадке, — так далеко будет слышен шум суматохи. Мужчины, делая вид, что ничуть не испугались, бросятся зажигать свет, чтобы лучше все видеть… Когда Душан тоже спал на мужской половине двора, справа от кровати отца, он часто ждал, что вот наступит такая минута, когда им надо будет спасать женскую половину двора от позора и ограбления, — и тогда он поймет, храбр отец или нет, и как поведет себя Амон, который все время желает подчинить его себе. Наслушавшись рассказов о ночных ворах, которые уже с вечера ходят по улицам с длинными лестницами и высматривают, куда бы их потом поставить, и носят в чемоданчиках свою ватную, бесшумную одежду, Душан лежал и смотрел на стены, думая, что вот покажутся сначала руки, а затем и голова в ватной феске — поговаривали, что водит своих разбойников Джавад–турок, — прислушивался, не продолжится ли шорох, и, намучившись, крался потом с нижней площадки наверх и ложился, прижавшись к бабушке, и засыпал быстро, наверное, оттого, что бабушка, которая больше всех боялась ночных воров, должна была утешиться от прикосновения его тела и, успокоившись, утешить мальчика ответно.
Читать дальше
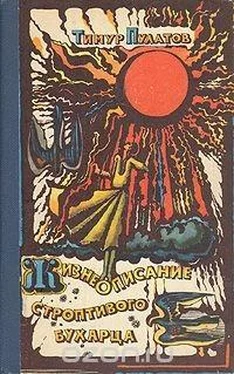





![Жан Рэ - Корабль палачей [Романы, повести, рассказы]](/books/416192/zhan-re-korabl-palachej-romany-povesti-rasskazy-thumb.webp)
![Семен Журахович - Киевские ночи [Роман, повести, рассказы]](/books/427801/semen-zhurahovich-kievskie-nochi-roman-povesti-ras-thumb.webp)



