Благо амбар был пуст или почти пуст, иначе ветер обвалил бы все, разломав эту часть норы. Только покатилась и прижалась к углу обглоданная кем–то, не сусликом, баранья кость, белая и отполированная, почему–то принесенная сусликом в свой амбар. Может быть, в длинные зимние дни, когда наверху, над песком, слой снега и льда, перемешанный с солью, суслик просто играет этой костью, перекатывая ее из угла в угол, подбрасывает, ловит на лету, держит в равновесии на кончике носа, затем, наклонив чуть, берет в зубы, словом, развлекается, а может, делает все это всерьез, чтобы не жить зря зимой, а оттачивать свои навыки, свое умение ловко набрасываться на полевую мышь или на хвост змеи. Потом, весной, летом… Ведь и суслик этот стареет, а чтобы жить дальше, надо оставаться ловким и умелым.
Ветер, уплотнившись, загнал эту баранью кость в угол, а потом еще и приналег, и половина кости медленно ушла в стену амбара.
Потом в амбаре стало свободнее, когда ветер начал выползать, а когда вылез, собрался у входа, а потом побежал дальше по норе; стенки амбара слегка заколебались, принимая свои первоначальные очертания, и кость снова медленно вылезла из стенки и, покатившись, упала в ямочку и застыла там, ибо песок, который давил сверху, вытолкнул кость обратно, и, как воспоминание о ворвавшемся сюда ветре, да и то короткое, недолгое, остались на стене капли влаги, дождя, которые принес с собой ветер и, уплотнившись, оставил.
Нора суслика коротка, так, метров пять со всеми ответвлениями и переходами, а дальше еще два или три пробега ветра по широкому месту норы, где суслик прогуливается — тут пусто и чисто, нечто вроде залы, — затем столовая со множеством ямок — в них суслик закапывает несъедобные остатки пищи, — и вот спальня, где суслик лежал на полыни и мимо него к выходу помчался ветер, забрав с собой все запахи.
В беспокойстве суслик поднялся, и вот тут–то полынь в последней надежде помчаться прочь из норы, ухватившись за хвост ветра, зашевелилась, но была снова поймана сусликом. Суслик взял траву зубами, запрыгал в залу, где прогуливался он после еды, и, встав на задние лапы, ловко так подпрыгнул и повесил траву на острый камень, выступающий из песчаника, рядом с другими пучками полыни, пойманными ранее, но теперь уже мертвыми, неблагоухающими. Повесил в надежде, что они снова запахнут, а может, просто как украшение тусклых стен.
Теперь уже полынь никогда не полетит вниз, ей надо свернуться, успокоиться и высохнуть до основания, и остаться так, как собственный скелет.
Траву может вынести отсюда лишь поток дождя. Набухшая, она будет бежать вместе с водой из низины в низину по пустыне, пока вода не спадет, а траву не засыплет песок.
Суслики боятся дождя. Весной, а нередко и летом, в такое время, как сейчас, льет короткий, но обильный дождь, вмиг наполняет озера, быстро всасывается в песок, проникая в норы и выгоняя зверье из жилья. И так же быстро потом дождь проходит, вода испаряется, поднимаясь тяжелым облаком над пустыней, облаком не плотным, а из слоев, между которыми просвечивает воздух в лучах солнца; слои облаков спускаются друг к другу, нагретый воздух между ними лопается — звук глухой и нестрашный, — облака разрываются и бросают на прощали на землю несколько крупных капель уже не дождя, а воды, но вода эта, не дойдя до песка, испаряется.
Суслик, встревоженный запахами дождя, но наверняка знающий, что дождя над его норой нет, все же решается из осторожности проверить, и еще его беспокоит ветер, проникший в нору, значит, кто–то расковырял запасной выход.
Суслик решает вылезти в ночь полнолуния, и едва он высовывается из норы, как длинная полоска света, вобрав себя запахи зверька, те запахи, что остались на его теле от полыни, несет их к скале, где мучается в бессоннице коршун.
Свет, принесший запах полыни, согрел коршуна теплом; приятное ощущение лени охватило птицу, и в этот миг она уже уснула бы наконец, если бы не почувствовала, что скоро утро и ей придется облетать свою территорию.
В узкой расселине, где скрывалось гнездо коршуна, запах травы, перемешанный с запахом людского жилья, задержался и долго не выветривался. Наоборот, здесь, в расселине, среди чистых камней, тщательно и навсегда вымытых ручьем, что некогда стекал со скалы, запах этот отстоялся, выкристаллизовался и все чуждое и постороннее спряталось, осело в слое мха: запах норы суслика, амбара, где влага, не имея возможности испариться, уйти глубже или рассосаться, превратилась в дурно пахнущую смолу. Этот запах ушел, и остался букет из полыни, немного запаха одуванчика, белые воздушные шарики которого, сотканные так искусно и незатейливо, катила с собой полынь, когда перебегала от бархана к бархану, возвращаясь из деревни, и еще запах двух–трех лепестков прошлогоднего тюльпана, цветка, столь нежного и хрупкого, что, разбуженный утром солнцем, к вечеру он уже стелется по песку, принимая окраску верблюжьей колючки.
Читать дальше
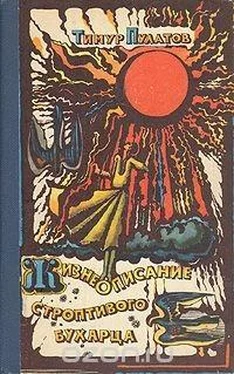





![Жан Рэ - Корабль палачей [Романы, повести, рассказы]](/books/416192/zhan-re-korabl-palachej-romany-povesti-rasskazy-thumb.webp)
![Семен Журахович - Киевские ночи [Роман, повести, рассказы]](/books/427801/semen-zhurahovich-kievskie-nochi-roman-povesti-ras-thumb.webp)



