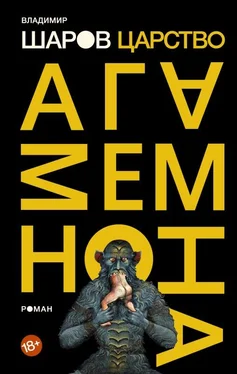Однажды отец пожаловался, что опер его отчеты даже не читает. А он очень старается, пишет не только что от него ждут – то есть кто что сказал, но и дает общий анализ настроений, причем дробно по каждой группе. И молодежь, и рабочие, и интеллигенция. Всё это опер мог бы взять, а дальше, не добавляя ни слова, перегнать в собственную служебную записку. То есть он, отец, делает за него самую важную часть работы, но, похоже, впустую.
«Опер – человек благодушный, – говорил отец, – зла мне не желает, но как взглянет на мою тетрадку, тосковать начинает. Говорит: опять твои каля-маля. Ты-то хоть понимаешь, что пишешь? Мирно, даже с сочувствием, объясняет: сам посуди, что́ я с твоими отчетами буду делать? Вижу, ты человек хороший, честный, что у тебя рука покалечена, тоже вижу, но ты и меня пойми, ты же не один такой. Вы все километрами гоните. Прочитать – жизни не хватит. А тут еще твои каракули.
Будь у меня нормальный почерк, – мечтал отец, – опер, что я делаю, давно оценил, тогда бы и отношение другое. Можно было бы подойти и попросить позвонить в школу, сказать, что, если меня возьмут преподавать немецкий язык, никаких возражений с его, опера, стороны не последует». И этого, повторял отец, было бы достаточно. Потому что он сам уже трижды ходил к директору и тот всякий раз объясняет, что рад бы взять: вести немецкий некому, но насчет ссыльных есть строгий приказ РОНО, его так просто в сторону не отложишь”.
Всё, что говорил отец, показалось Гале разумным, она сразу представила и отца, и опера, который вертит в руках его письмена и никак не может понять, что́ с ними делать, что́ тут вообще написано: оттого, хотя уроков и было много, легко согласилась, сказала, что перебелит отчет. Начнет в четверг, чтобы до субботы наверняка успеть. Видно было, что отец очень благодарен, доволен ею, да и она радовалась не меньше его. Как обещала, так и начала. В четверг пришла из школы, поела и сразу села перебеливать. Боялась, что не сумеет разобрать отцовский почерк, но с этим как раз проблем не было. Хотя его правая рука, которую покалечило дерево, когда писал, сильно дрожала, привыкнуть оказалось несложно.
“В общем, – говорила Галина Николаевна, – всё выходило проще, чем я думала, я уже прикинула, что закончу работу еще в пятницу и не поздно, так что вечер будет свободным и мы с Наташей можем пойти в кино. Я переписывала, – продолжала она, – но в смысл не вчитывалась, правда, была удивлена, что ничего интересного в доносе, в сущности, и не было”. Разговоры рабочих, как она поняла – из отцовской бригады о нормах и расценках. “Каждый год, а то и чаще, – говорил какой-то В. Семенов, – нормы растут, а расценки падают, оттого денег домой мы приносим кот наплакал”. Они и другим были недовольны – оснасткой, станками. Хором ругали власть – тот же В. Семенов еще и грязно матерился, – которая зовет себя пролетарской, а с рабочим человеком обращается хуже, чем со скотиной. Отец старательно всё записывал. Короче, до середины тетради один завод.
И от этого, и оттого, что работа шла гладко, быстро, Галя не сразу заметила, что в отцовском доносе стали мелькать новые лица, причем первым ненадолго появился Наташин отец. Вчера он уехал, но прежде неделю был в Ухте, и за шахматами они с отцом обсуждали его последнюю командировку. Отрывки их разговора Галя слышала, и теперь само собой выходило, что она сравнивает устную речь и письменную. Отец очень ценил точность; что память у него отличная, она знала, но здесь, в доносе, ему пришлось из пустяшного, по сути дела, разговора отжать воду. То есть слова были ровно те, что говорил Наташин отец, ни одно не прибавлено, но на бумагу их перенес прирожденный драматург, который, еще водя рукой, слышал, как каждое из них будет звучать.
В итоге, когда воду убрали, а в том, что осталось, правильно расставили ударения, важное выделили и подчеркнули, это больше не было брюзжанием двух немолодых, коротко знакомых людей, которые ничего нового друг от друга и не надеются услышать, – самая настоящая, самая взаправдашняя, перед ней лежала антисоветская агитация и пропаганда, причем запротоколированная по всем правилам следственного дела. Галя машинально прикинула, что, даже если повезет, подобный расклад тянет лет на десять – не меньше. Она подумала об этом спокойно, так же, как и о совершенно незнакомых ей заводских рабочих из отцовской бригады, пожалуй, лишь удивилась, как немного надо, чтобы фраза, да и вообще всё стало звучать по-другому; сюда же положила, что у отца несомненно талант, настоящий литературный дар, и только тут, представив, что Наташа снова одна, а ее отец где-то в тюрьме или на зоне и даже неизвестно, жив ли, заплакала.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу