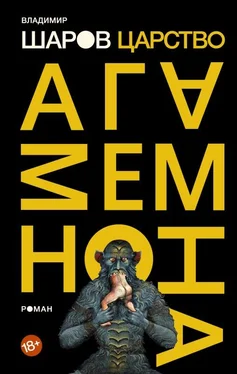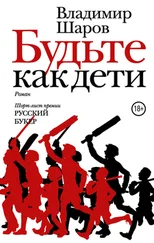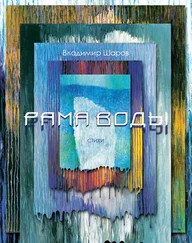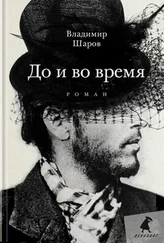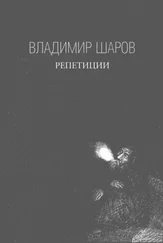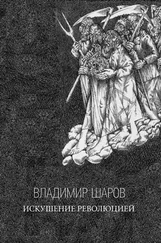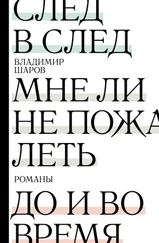В общем, похоже, она просто играет дурочку – красивая женщина, хороший чай, печенья тоже хороши, и они ей подыгрывают, говорят, что роман из таких, что не каждый год на свете божьем появляется: если от нашего времени что и останется, «Агамемнон» – первый кандидат. В сущности, это ровно то, что она надеялась услышать, понятно, она этому верит, и какие у нее основания не верить?
И вот мать решает, что получила шанс, серьезный шанс, а лоб у нее крепкий, упорства тоже не занимать, так что если главлитовскую стенку можно прошибить, она прошибет. Только действовать надо не наскоком, а умно, по тщательно разработанному плану. В сущности, он у нее уже есть. Еще в бытность женой Телегина, она в его служебной квартире на Покровском бульваре держала открытый дом. По вторникам собирала известных музыкантов, актеров, режиссеров, меньше любила поэтов, но приваживала, подкармливала и их. То есть в этой среде у нее хорошие связи: ее обеды и вторничные домашние концерты до сих пор поминают. И вот она всех, кто ее помнит по телегинским временам, начинает не спеша обходить. Ссылаясь на тех, кому «Агамемнон» читался или кто сам его читал – а они не последние люди, – говорит, например, актерам (каждому, естественно, свое), что в романе есть такой герой – конечно, ты выдающийся мастер, но, сыграв его, навсегда останешься в истории русской сцены. Режиссерам – что роман Жестовского и переделывать не надо, он готов: одному – для инсценировки, другому – для экранизации. Там так показано наше время, такие судьбы, такие сильные характеры – «Агамемнон» легко возьмет Сталинскую премию, буквально сметет конкурентов.
Конечно, это лесть, обыкновенная лесть, но она работает. И полугода не проходит – а все только и говорят, как бы заполучить роман Жестовского. Убеждают ее, что первым следует дать именно им, тот-то и тот-то «Агамемнона» просто загубит. Уже и издательские работники, правда, пока негласно, к ней обращаются, тоже повторяют, что с радостью напечатали бы Жестовского у себя. Под материным нажимом отец, чтобы поддержать интерес, достает из тайников два экземпляра и под слово, что никто никому и ничего не скажет, снова начинает читать роман отдельными главами. Конечно, ясное дело, выбирает нейтральные, понимает – совать самому голову в петлю не стоит. Но и эти главы написаны сочно, без сомнения, талантливо. Короче, по всему видно, что мать ничего не преувеличивает.
То есть мать свою партию отыграла лучше некуда, только отчего-то забыла, что сейчас не прежние времена. А так шло, как надо, просто и на сей раз расторопнее оказались не издательские редакторы, а оперативные органы. Волна, которую мать подняла, еще и до своего гребня не добралась, а на Лубянке уже поняли, что имеют дело: а) с организацией; б) глубоко законспирированной (коли роман Жестовского толком еще никто не читал, даже в руках не держал); в) и сам роман, по-видимому, вещь глубоко антисоветская. Вместе и первое и второе и третье тянет на несколько серьезных пунктов 58-й статьи. В результате почти восемьдесят человек арестованных, могло быть и больше, но война только недавно кончилась, команды раскручивать дело по полной не последовало”.
“Вряд ли это как-то связано, – рассказывала Электра через неделю, опять же за чаем у меня в ординаторской. – Но именно вскоре после статьи двух генетиков, Ракова и Сидоркина, о близнецах в «Трудах Академии медицинских наук», отец написал собственную работу на ту же тему, но уже в литературе. А начало дискуссии в нижегородском журнале «Рабочий и искусство» о метафоре, о том, нужны ли вообще тропы и иносказания пролетариату, прямой дорогой идущему в коммунизм, совпало с его собственной большой статьей о литургике как метафоре мира, в котором можно спастись. Статья неизвестно почему оказалась подшита к его третьему делу, начатому производством в декабре тридцать четвертого года, но прямо просится под обложку нижегородского журнала”.
Я эту статью Жестовского уже знал, как и другую его работу о пролетарском языке, потому что читал их в томе, который рецензировал для издательства “Наука”. В своей статье о метафоре Жестовский приходит к ряду оригинальных выводов. Начинает он с общепринятого взгляда на метафору как на хоть и свернутые в кокон, но точные суть и смысл. Однако скоро уходит очень далеко.
“На первых порах, – пишет он, – наше понимание Бога вполне пантеистское – Бог везде и во всем; вне, помимо Него, нет и не может быть ничего. Но пройдет время, и Бог устанет затыкать уши, устанет от воплей, жалоб человека, что коли Он, Бог, везде, мы не знаем, куда идти, не знаем, где Его искать, оттого путаемся, бросаемся из стороны в сторону, в итоге так и тонем во зле”.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу