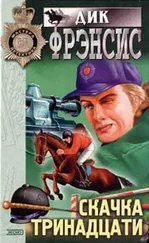Даздраперма даже пукнула от удовольствия.
— Дети?.. Какие еще… дети?! — побледнел Померанец.
— Ну, маленькие такие, писклявые… ну, писаются еще, — я покосился на Даздраперму, — лезут куда ни попадя…
— Все полезно, что в рот залезло! — ни к селу, ни к городу ляпнула Даздраперма, дура, доложу я вам, жуткая, временами просто клиническая…
— Да вы, гражданин Померанец, не нервничайте, вы садитесь, садитесь, — разрешил я, и этот олух царя небесного так и сел мимо стула.
— Знаете, — сказал я, сглотнув подступивший было к горлу закрепитель, — я тут после каждого занятия ночами все думаю, думаю, и вот ведь какая ерунда получается: ну, хорошо, ну, допустим, построили мы с вами этот самый наш Военный Гуманизм, ну а дальше-то что?..
— Так вы, значит, ставите вопрос: что дальше?.. Что же, так сказать, дальше — спрашиваете вы, — тоскливо озираясь, пролепетал Померанец.
— Ну, так и что дальше-то?! — со свойственным мне бессердечием вопросил я.
Нет, ей-богу не знаю, чем бы все это кончилось на этот раз, если б не она, суровая моя возлюбленная и наставница.
— А дальше, — звенящим от волнения голосом сказала Идея Марксэновна, вставая, — а дальше, дорогой товарищ Тюхин, начнется новая, но опять же — героическая глава нашей с вами самой великой в мире Истории, товарищи!
Зал так и взорвался аплодисментами. Зазвучали здравицы в честь руководителей.
И вы знаете, такая она была одухотворенная, такая, даже без поправки на розовые очки, привлекательная в тот момент, что я, Тюхин, честно говоря, даже залюбовался. Вот тут-то и надо было бы мне, пользуясь случаем, остановиться, попридержать свой дурацкий язык, но увы, увы — меня уже понесло.
— Но тогда что же это выходит, товарищи, — не сводя с нее, с Идеи моей Марксэновны, глаз, воскликнул я, ее духовный ученик и платонический сожитель, — ведь если в 1924 году, в январе, в Горках Ленинских, к нашей всеобщей радости снова начнет биться сердце Вождя мирового пролетариата, дорогого и любимого нашего… товарища, — глубокий, взволнованный вздох, — товарища… Иванова, — моя Идея облегченно переводит дух: не перепутал-таки, Жмурик! — товарища Иванова Константина… Петровича!.. — Точно ветер проносится по залу. Все в едином порыве встают, а я, вредитель, терпеливо дожидаюсь, когда овации поулягутся, и заканчиваю-таки свою вредительскую мыслишку, ничтожную, циничную, типично тюхинскую:
— …тогда со всей неизбежностью следует, что далее — в 1918 году, тоже в горках, только уже в других — в Уральских, в городе Екатеринбурге восстанет из праха и…
И тут, дорогие мои, раздался в буквальном смысле этого слова — леденящий душу, пронзительный крик:
— Молча-ааать!..
Мне даже показалось поначалу, что это опять он — мой, так называемый, внутренний голос, но и на этот раз я угодил пальцем в небо. Кричала она — моя квартирная хозяйка Шизая, Идея Марксэновна, соломенная вдова. Клянусь, в жизни не слыхивал столь отчаянного, на грани самоуничтожения крика! Вот так, говорят, кричат перед смертью зайцы — безысходно, почти по-человечески.
— Молча-ать, кому говорят!..
Господи, как же она была хороша в это мгновение: глаза метали огонь, грудь — скромная такая, совершенно непохожая на Ляхинскую, возбужденно вздымалась под кожаночкой, неровные зубки постукивали.
Что и говорить — напряжение в зале достигло апогея.
Но тут произошло маленькое чудо. Идиотка Даздраперма опять оконфузилась. Причем, на этот раз, по-моему, специально. И все мы как-то разом расслабились, заулыбались простыми человеческими улыбками, забыли о политических разногласиях. Атмосфера разрядилась. Даже Обосранец и тот, опомнившись, нашелся:
— Товарищи, а хотите, я вам фокус покажу?
Военачальники дружно зааплодировали.
— Дорогие товарищи, — задушевно сказал заметно приободрившийся агент по распространению партийно-правительственных постановлений, — а хотите я сейчас, прямо на ваших глазах съем какой-нибудь совершенно несъедобный предмет?
— Просим, просим! — зашумели все в зале и я, дубина, в том числе.
— Итак, сейчас на глазах почтенной публики я проглочу… ну что?.. Ну, скажем, — и в этот миг он резко повернулся ко мне, — ну, скажем, паспорт, который мне даст наш дорогой гость, гражданин… — он выдержал паузу, — гражданин Финкельштейн, он же — Хасбулатов, он же — Тюхин и так далее, и тому подобное!..
Воцарилась мертвая тишина. Я медленно встал. Вы сами, должно быть, догадываетесь, как безумно трудно, почти невозможно было мне, Эмскому, сказать что-нибудь мало-мальски связное по этому печальному поводу. И все же я сказал.
Читать дальше