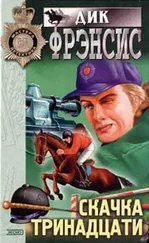Короче, ближе к вечеру в спальню Матильды со страшным грохотом вломились эти выродки: Гибель, Гусман, Иваненко, Петренко и Сидоров.
— Хенде хох! — хором вскричали они.
Вот так меня и взяли совершенно, извиняюсь, голенького, господа.
Глава семнадцатая. И разверзлись хляби небесные…
Когда я проснулся, проклятый вой продолжал раздаваться в ушах: «Улла… улла… улла… улла…»
Г. Уэллс. «Борьба миров»
Господи, до чего же все, в сущности, одинаково, скучно, до истомы, как у нынешних корифеев, бездарно!.. — слепящий свет рефлектора, сменяющие друг друга, но по сути ничем друг от друга не отличающиеся, следователи, и вопросы, вопросы, вопросы, вопросы…
— Фамилия?
— Имя?
— А если честно, как левинец — левинцу?
— Куда вы дели труп зверски замученной вами Христины Адамовны Лыбедь?
— А где же тогда Виолетточка?
— Кто взрывал пищеблок?
— Назовите инициалы этого Шопенгауэра.
— Перечислите всех остальных членов вашей преступной организации!
— Кто такая Даздраперма Венедиктовна?
— Где Сундуков?
— Какой еще адмирал?! Вы что, издеваетесь, что ли?!
— Где заложено второе взрывное устройство с часовым механизмом?
— Причем здесь мыльница?
— Кравчук?!
— Минуточку-минуточку, а Толстой Б. кто такой?
— Ваша агентурная кличка?
— Сколько половых актов вы способны совершить за ночь?
— Вы что — заяц, что ли?!
— В таком случае — кто вы, Тюхин?
И мой тягостный вздох, мое безнадежное, из последних сил:
— Ах, не Чубайс я, не торговец лесом, не расстреливал несчастных по темницам…
— Опять — Вальтер фон дер Гутен-Морген?!
— Нет, это уже — Чепухаустов.
— Вы когда-нибудь крокодилову мочу пили?.. Сейчас попробуете!
Глава восемнадцатая. Древо Спасения, или Беседы при ясной Земле
И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей.
Первая книга Моисеева
Свет сменялся тьмой, тьма снова светом, а дождь все лил, лил, ни на секунду не прекращаясь. И ночью ему казалось, что это черная лебедь, тоскуя, бьет над ним шумными крылами, а днем — что это лебедь белая. И так, сменяя друг друга, две верные подруги Тюхина — черная, как Одиллия, Виолетточка, и белая, как Одетта, Христина Адамовна, попеременно плещущие крылами, как двуипостасная балерина Плисецкая, тоскуя, метались над ним, такие разные и в то же время одинаково скорбные, как бы являвшие собой олицетворение марксистской теории единства противоположностей.
И вот однажды лебедь белая, отчаявшись добудиться его, стала бить его по щекам своими сильными, как при жизни, крыльями, причитая: «Ой же встань-проснись, сокол ясный, Викторушка, иль не слышишь, милой, как томлюсь над тобой, как молю у тебя сатисфакции!..»
И Тюхин, несусветно отзывчивый, человечный Тюхин не выдержал и на этот раз: застонав, пошевелился, потянулся к чему-то округло-белому, двуединому, даже в посмертье, притягательному.
— Ах, я сейчас, сейчас! — радостно вскричала большая белая птица, и отметнулась куда-то в сторону, пытаясь торопливо избавиться от бутафорского оперения своего. И тут сверкнула молния, грянул гром, и Тюхин, вздернувшись всем гальванизированным телом своим, очнулся, вскинулся, ошалело моргая, огляделся вокруг, и все вдруг вспомнив, спохватился, затормошил рядом лежавшего:
— Товарищ капитан!.. Эй, товарищ капитан, слышите?..
Но товарищ капитан Фавианов, открытый рот которого был полон воды всклень, не слышал уже ничего, кроме этого бесконечного, безумного, как овации в Большом концертном зале «Октябрьский», шума дождя.
— О, как ты прав, Господи, — прошептал рядовой Мы, — он сыграл свой коронный номер с блеском…
Пошатываясь, он встал и пошел. И дождь был как занавес, и никак не находился в его складках выход на освещенный софитами просцениум. И воскресший все путался, блуждая, как чужой. И сначала было по щиколотку, а когда море снова, как в былые дни, чуть не стало ему по колено от помутившей рассудок, точно хмель, сладкой отравы под названием «Тоска по Тюхину», он вспомнил вдруг притчу про Учителя и двенадцать его учеников. Как Учитель пошел однажды по морю, яко по суху, и как пошли за ним ученики одиннадцать след в след, как и положено прилежным ученикам, а двенадцатый, Фома-неверующий, своим собственным путем. И когда ему стало по пояс, он закричал: «Учитель, мне уже по пояс!» А когда ему стало по грудь, он закричал еще громче: «А вот уже и по грудь! Учитель! Ты слышишь?» А когда вода подступила к самому горлу, Фома возопил: «Так ведь тону же, Господи!» И тогда Назорей оглянулся и молвил так: «А ты бы, Фома, не выпендривался, а шел бы, как все, по камушкам!» И показывая, как и положено наставнику, как это делается, переступил с одного камушка на другой…
Читать дальше