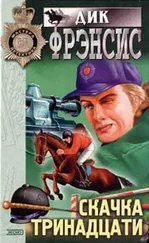Омшара зачвякала. И я погряз, и обмер, и понял, что погряз, и грязну, грязну!.. По щиколотку грязну, по колено! И не хочу — но грязну, грязну, грязну…
— Так ведь тону же! — догадался я и на карачках выбрался из хляби и огляделся…
Утренняя смурь пласталась над грязотой непролазной. И слева были кочки, справа кочки, и чмокалки, и кваклые дрызгухи, и неумь неуемная впришлепку. Но не было, куда ни глянь, меня. И как на грех Клубочек потерялся, в трех соснах заплутал, поди, болящий, не дотянул до жизни предстоящей…
И тут во тьме зачавкали шаги, захлюпали, заплюхали калоши и Некто Без Лица, тощой и в шляпе, с гнилухою в руке, из забытья, светясь, как призрак, вышел. Тьма редела. Я деликатно кашлянул в ладошку.
— Тыр-пыр — семь дыр! — сказал. — А как на волю, где жизнь, где свет, где мир, где пир, попасть?
И человек в больших калошах замер, недоуменно осветил окрестность и, вдруг согнувшись вдвое, мелким смехом рассыпался:
— Э-хе-хе-хе! На волю?! На во-олю?! И-хи-хи-хи-хи! Вы где?..
— Я тут! — воскликнул я и в грудь бубухнул, что было сил.
— На волю?.. Тэк-с, тэк-с, тэк-с! — сказал он, озираючись уныло. — Вы где?.. Ау-уу!..
И человек в калошах полез в карман, и вытащил оттуда серебряный свисточек милицейский.
— На волю, говорите? — повторил он. И, облизав небронзовые губы, заливисто и громко засвистел!..
И тут сталося диво-дивное, чудо-чудное сквозьпробежное!
— Дэржы! Бэры! Хватай яхо, в натурэ! — раздался за кустом знакомый голос. И прямо на меня, живуч, как смерть, помчался незабвенный Безымянный уже седой, с лампасами на бриджах, в ночной рубахе, в тапочках домашних, и с сигаретой «мальборо» в зубах.
— Горыть в сэрдцах у нас! — заголосил он, мослы раскинув. И в ответ болото забулькало, взбурлило, засмердело, заквакало, зачвякало, взнялось!
— Держи его! Бери! — завыла хором несметная толпа переперденцев.
— Всегда готовы! — птибрики вскричали, ловчея и мужая на бегу. Он несся на меня, седой волчара, и сквозь меня пронесся без оглядки, и чрез меня промчался Бесфамильный и помер года три тому назад.
— Ату его! Ату! — прикрыв ладошкой роток, хихикнул человек с гнилухой. И по кровям заплюхали калоши, жизнь поплелась привычным чередом. И в кой уж раз ума лишилась Вечность. И время жить прошло. И три минуты молчания…
И кваклое болото засыпало песком. И чье-то сердце клубочком поточилось-покатилось все дальше, дальше… больше не мое…
Глава пятнадцатая. Подпольный горком действует
Когда рядовой М. закончил читать, ни Ричарда Ивановича, ни Рихарда Иоганновича, ни Григория Иоанновича в «коломбине» уже не было. Непостижимо, но факт: дверь так и осталась закрытой изнутри на задвижку! Что же касается окошка, то через него не пролез бы даже Ромка Шпырной, имевший, как известно, поразительные способности по этой части. Неблагодарный слушатель исчез, оставив на телеграфном ключе свою знаменитую, с опаленными полями и прожженной тульей, соломенную шляпу. Эта привычка скрываться в самый нужный момент — водилась за ним и раньше, но на этот раз Зоркий слинял с каким-то подчеркнутым цинизмом — не притронувшись к бромбахеру, бросив на пол сломанную надвое последнюю Витюшину сигаретину, и это в тот самый момент, когда возбужденного автора так и подмывало чокнуться в очередной раз. Кроме того существовал целый ряд вопросов, которые не терпелось прояснить рядовому М., и тем более в свете столь обидного исчезновения. Ну в частности: не болит ли у него, у Рихарда Иоганновича, спина после табуреточки? Дело в том, что этот напрочь лишенный совести иллюзионист, с которым, как читатель должно быть помнит, Витюша проживал в одном номере, повадился одно время, являясь под утро, наотмашь бухаться спиной на кровать. Упав, он блаженно раскидывал в стороны свои, обагренные кровью невинных жертв, руки и стонал:
«Уста-ал! Чертовски, Тюхин, уста-ал!»
В конце концов терпение у Витюши лопнуло и он подсунул этому энкавэдэшнику под кровать перевернутую вверх ножками табуреточку. Надо ли говорить, что вопль, который издал той ночью Рихард Иоганнович, был способен поднять на ноги даже Ваню Блаженного?.. А еще Витюша собирался поинтересоваться относительно старшины Сундукова, чье грядущее перевоплощение в космические адмиралы представлялось ему с одной стороны совершенно неизбежным, с другой — он как автор ума не мог приложить, каким таким фантастическим образом оно могло осуществиться… Ну и самое, самое, пожалуй, главное: у рядового М. прямо-таки язык чесался узнать, каково это — оказаться в положении гоголевского поручика Пирогова, тоже, как известно, жестоко выпоротого, и хотя Р. И. был выпорот не пьяными иностранцами немецкого происхождения, а всего лишь впавшими в голодный мистицизм недоумками — это, по мнению Тюхина, было не менее оскорбительным для любого мало-мальски уважающего себя русского интеллектуала.
Читать дальше