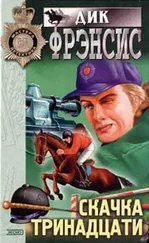Отцов-командиров я обнаружил в подсобке. Трое из четверых, сидевших за служебным, покрытым вылесевшей клеенкой, столиком товарищи Фавианов, Скворешкин и Сундуков были совершенно трезвы, четвертый — товарищ Лягунов, Василий Максимович был пьян, как надувшийся браги колхозный конь. Он то и дело встряхивал свисавшей на лоб сивой челкой и весело ржал, сверкая золотой, в правом верхнем углу челюсти, фиксой. Когда я приблизился, товарищ майор, всхрапнув, восколикнул:
— И-и-го-го-го-го-го-гой!
Кровь отхлынула от лица моего! Будучи от природы человеком крайне щепетильным и самолюбивым, я, Тюхин, в одном из своих совсем недавних воплощений 100 %-й ашкенази, был кровно оскорблен этой, унижающей мою национальную гордость, кличкой и хотя в своей нынешней, тюхинской, ипостаси я был существом до мозга костей русским, а стало быть этих самых финкельштейнов время от времени на дух не переносил, подобного рода выпад это ж надо же: «гой»! — я оставить без ответа не мог. По инерции, я хотел было, подобно товарищу старшему лейтенанту, потребовать немедленной сатисфакции, но, на мое счастье, пьяный лошак Василий Максимович, в очередной раз всхрапнув, уронил свое офицерское достоинство прямо в тарелку с солдатской «кирзой» и смолк. Я медленно сосчитал в уме на церковнославянском от одного до тридцати и наоборот, и категорически потребовал у этих незадачливых путчистов освободить из-под стражи моих арестованных товарищей.
Товарищи Фавианов, Скворешкин и Сундуков грустно переглянулись.
И тут за спиной раздался вздох, от которого шевельнулись мои пресловутые, Тюхин, пейсы:
— Это кто же у нас тут права-то качает?! Это что же это за плевака прямо-таки в душу мою материнскую плюет?! — вопросила Христина Адамовна глубоким грудным голосом.
Я хотел было прояснить ситуацию, я уже сказал было «а…», но она шлепнула меня по затылку своей нежной рученькой, да так, что я едва успел поймать на лету злосчастную пластмассовую челюсть.
Христинолюбивое воинство в соседнем зале разразилось дружными аплодисментами.
— Отставить разговорчики! — гаркнула Мать Полка. — Эвона куда загнул: «арестованные товарищи»! Азиятский верблюд твоим говнюкам товарищ! Перепилися тута, как цуцики, переблевались, Виолетточку, подругу мою сердечную, чуть не трахнули, чести девичьей чуть не лишили! В чулане я их, безобразников, заперла ой да на протрезвление. А ты, Тюхин, раз уж такой умный нашелси, на-кося бери ключи, иди выпущай своих пачкунов, и чтобы духу ихнего туточки больше не было!..
Сопровождаемый тягостными взорами трех бывших своих военачальников, я, как оплеванный, потащился к запертой на большой висячий замок двери морозильной камеры. Даже сейчас, по прошествии времени, не могу без содрогания вспоминать эти роковые мгновения. Дабы избежать возможных кривотолков, привожу текст случайно сохранившегося у меня официального документа.
«Матушке Христине Адамовне
от раба Божия Тюхина,
отставного генералиссимуса
РАПОПОРТ
Сего дня, числа коего не знаю и знать не хочу, я, раб Божий Тюхин, будучи послан с ключами и подошед к дверям, всунул оный инструмент в отверстие, каковой в отличие от некоторых иных предметов, участвующих в актах, благополучно вхож был и, достигнув упора, произвел подобающий эффект путем неоднократных нажатий и интенсивных поворотов. Не токмо душа, но и плоть моя вострепетала от счастия, когда препона отверзлась и очам моим явлена была заветная тьма, хранительница неизъяснимых восторгов и поистине гастрономических наслаждений. „Эй вы, лямурьянцы, где вы тут?“ — голосом, полным дружелюбия, окликнул я. Увы мне, увы! Вместо чаемых Филина, Шпорного, Шпортюка, с леденящими душу криками, на волю вырвались два диких, четвероногих, безумно вытаращивших лемурьи свои глаза, демона! Все в ссадинах, перьях и экскрециях с ног и до голов включительно, они, опрокинув меня, с диавольской быстротой кинулись к служебному выходу, совершенно не обращая внимания на мои горестные к ним призывы. Вслед за оными, заставив меня онеметь от неописуемого ужаса, из тьмы кромешной выметнулась тварь пернатая, бесшумная, ночная! „У-ху-ху ху- бля!“ — выкрикнул крылан и скрылся, испещрив меня пометом, своим напоминая мне полетом пропащий Рекрутского дельтаплан…»
Дальше меня, к сожалению, понесло, что к вечеру приняло характер стихотворной, усугубленной наложившимся на нее внезапным запоем, горячки.
О, как бы мне хотелось сказать вам, дорогие читатели, что все изложенное в этом бредовом рапорте, не более, чем плод поэтического воображения, на худой конец — не слишком удачная шутка моих допившихся до чертиков сослуживцев. К несчастью, действительность, до сих пор преследующая меня ночными кошмарами, оказалась еще страшнее. Филин, Шпырной и Шпортюк не только с воплями вырвались на свободу, но и, ни на секунду не останавливаясь, совершенно необъяснимым образом миновав КПП, скрылись в неизвестном направлении, причем дезертирство это было совершено столь дерзко и умело, что не только командование, но и я, автор, пребываю в полнейшей неизвестности относительно их нынешнего местопребывания.
Читать дальше