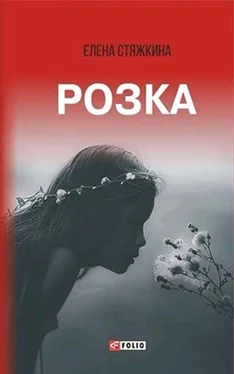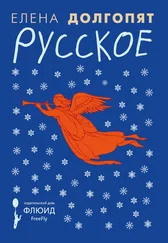Я не могу рассказать о себе, потому что вместо слов – жеваная промокашка, пульки которыми удобно плевать через поломанную шариковую ручку. У меня выжженное Чебурашкой небо, онемевший от речевок язык – «Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд». У меня в зубах застрял какой-то бесконечный штирлиц, тягающий по коридорам рейхстага тоску по жене, которую можно было привезти на свидание в Берлин, но нельзя – ни обнять, ни уложить в постель. И «Три мушкетера», три взбесившихся мушкетера, поющих по любому поводу. По поводу смерти – особенно громко. Мне нечем разговаривать. Зато я могу видеть всякую нехватку слов. В этом – облегчение. У Пикассо не было Чебурашки, а был Париж и много длинных пьяных и трезвых разговоров. Но для войны ему тоже не хватило слов. И цвета. Получилась «Герника». У Гойи, говорившего с королями и узнававшего пророка Исайю, тоже не хватило слов и цвета. «Бедствия войны» – глазу больно, глазу больно, а уху – нет. Я не сумела бы стать художником. Мой первый опыт оказался последним. Он назывался «девочка без шеи». Но с бусами. Мне казалось, что шея может быть изображена как невидимая. В пять лет в голове много такого – видимого и невидимого. Семья очень смеялась и советовала исправить рисунок. Нехватку шеи невозможно спрятать от дотошного зрителя, который всегда вытянет палец и укажет на недостатки.
«Никакой художественной ценности в «Гернике» нет. Это – прокламация. Листовка, не более того. Она ужасна. Это худшее, что он создал».
Марк, ты помнишь эти разговоры? А я всегда смотрю на быка-минотавра. Он с шеей, но без тела. И без сострадания. Неподвижный тупой взгляд. Пусть все умрут. Пусть все умирают. Минотавр – это тоже гомункулус, просто созданный с античными страстями и античным размахом. Посмотри, он похож.
Хорошо, что мы не художники. Нехватка слов превращается в Буквы. Мы прячемся в них, Марк, как в бомбоубежищах. Без особой нужды эти убежища не откроют и не увидят. Мы можем делать, что хотим, и никогда не выходить на свет. Мы можем позволить себе никогда не верить в то, что бомбежки прекратились. Потому что там, наверху, где никто ни о чем не хочет знать, всегда есть «Герника», где-то есть «Герника» и тупое убивающее животное, тупое бесцветное животное. Моль или Минотавр – не суть.
* * *
Когда мы победим русских и вернемся, все плохое будет таким же. Рита, если она все еще жива и найдется, будет обмирать в магазинах, а Мегги, если даст о себе знать и захочет вернуться, будет таскать в дом модную игуану и пожирателей солнца. Будет много праздничной мишуры, блесток и прогулок по воображаемой набережной. По воображаемой: искусственным водоемам не положены настоящие. Вечерами будет шумно и весело. Никто не вспомнит о комендантском часе. И воронки, оставленные снарядами, превратятся в привычный предмет пейзажа. Мы ослепнем к прошлому. Все его знаки и разрывы, все его голоса канут. Потому что будет шумно и весело. И Ной, тысячи Ноев посадят виноградники, разденутся до новой голости, представляя себе Адамами, и напьются, потому что «пить» не такой уж грех в сравнении с «убивать».
Кто сказал отцу Мегги, что ему стоит попробовать на вкус свою жизнь? Ты, Марк? Феликс с деревянным мечом? Старый Михаэль?
Старый Михаэль… Он сказал еще, что если все плохое будет таким же и после войны, то все Риты и Мегги однажды снова могут превратиться в славную Маргарет, славную хрупкую Маргарет, которую сожгли в модной технически безупречной печи за то, что она была Маргарет.
Попробовать на вкус свою жизнь? Отречься? Отец Мегги хотел обидеться, но не смог. У него никогда не срабатывал нормальный защитный механизм. Каким-то другим, казалось ему, всегда было хуже. Какие-то другие нуждались в его понимании и прощении больше, чем в обиде. Он надолго останавливался возле каждой ссоры, прокручивая ее сюжет туда и назад, туда и назад. Отец Мегги вникал, пока не растворялся до полной невидимости – покорно – в покойнице-жене и радостно, вприпрыжку – в Маргарите. Маргарита собирала календарики, танцевала народные танцы, моделировала самолеты в кружке юных техников, потом – почти взрослой – сбегала на дискотеки, и отец Мегги сидел на балконе, вглядываясь в темноту. Ждал. Но был в полной готовности выскочить на помощь, добежать, доехать, вмешаться в эти дикие танцы. Иногда добегал – убеждался тихонько, что все в порядке и возвращался на балкон. Дома, куда пока нет дороги, остались ее тетради, украшенные звездочкой за лучшее прилежание, ее грамоты, ее конспекты по физике, потому что было время – целых полгода, – когда Маргарита хотела стать физиком.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу