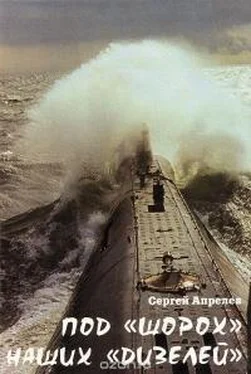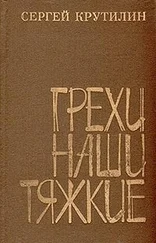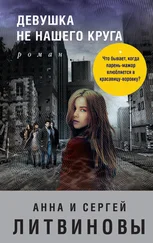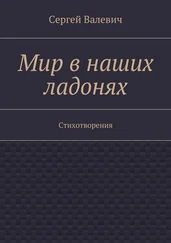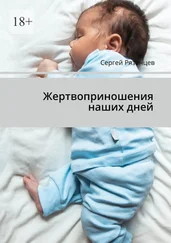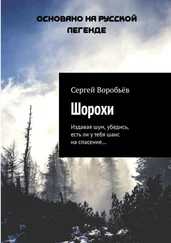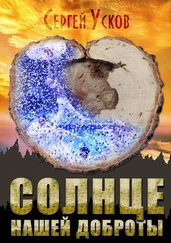Ворочаясь на корявом ложе, я вспоминал и недавний отпуск. Самое главное - удалось, наконец, впервые повидать сына Павлуху, родившегося через шесть месяцев после отплытия «С-28» в Африку. Согласитесь, что даже если придерживаться мнения, что хорошего отца должно быть не видно и не слышно, то хотя бы раз в полтора года бывать дома необходимо. Иначе теряешь связь времен и чувство реальности. Хорошо, что заботу об этом великодушно взвалили на свои плечи компетентные люди. В разгар отпуска, проходившего в Лиепае, меня пригласили в особый отдел эскадры. Дело святое, кто как не командир может охарактеризовать обстановку во вверенном ему экипаже. Тем более что значительная часть этого экипажа уже возвратилась…в Лиепаю. Встреча с начальником прошла в деловом, доброжелательном духе. Капитан 1 ранга В. был человеком интеллигентным. Зато «беседа» с его заместителем меня откровенно расстроила.
- Колись, командир, как твои люди в публичный дом путешествуют?
- У меня таких сведений нет, - максимально спокойно ответил я, нисколько не лукавя.
- Зато у меня есть! - гремел заместитель, видимо, для показа методики «ломки» сидевшему рядом старлею.
- Вот у того, кто тебе это сказал и уточняй!
Меня возмутил внезапный переход на «ты», пусть и равного по званию, но совершенно незнакомого человека. Похоже, моему собеседнику ход разговора нравился еще меньше. Приблизившись вплотную, он выкрикнул до боли знакомую по Алжиру фразу:
- Да я тебя на Родине оставлю!
За границей в устах начальников это звучало несколько иначе - «Я тебя на родину сошлю!» Сколько же можно родиной стращать? Я от души рассмеялся, вызвав недоуменные взгляды «собеседников». Аудиенция была окончена. А вскоре, получив клятвенные заверения московских кадровиков в немедленной отправке семей офицеров и мичманов нашей группы, вылетел в АНДР. И вот теперь эта ирония судьбы с «публичным домом»…
«Ну и чутье! Неужели этому учат в Новосибирске? (там располагалась школа КГБ - С.А.)» - Я с уважением вспомнил лиепайского чекиста и вскоре провалился в липкий, но глубокий сон. Как никак 800 километров «в седле» за день…
УАРГЛА
Пробудившись в холодном поту, в том числе, от царившей вокруг антисанитарии, мы стремительно покинули «обитель порока». Разбор полетов был проведен уже по дороге в очередной центр сахарской цивилизации - город Уаргла (Ouargla). Со времен юношеского увлечения Жюлем Верном я помнил, что именно в этом городе был выслежен, а затем и злодейски убит коварным туарегским бандитом Хаджаром бельгийский путешественник Карл Стейнкс. Отсюда отправлялась и экспедиция майора Флаттерса, канувшая в Лету, как в песок, вся до последнего человека. Сейчас здесь располагается известный Музей Сахары, который хоть и мал с виду, но хранит массу интересного. К тому же его здание носит уникальный отпечаток местного архитектурного стиля. Этакий мавзолей с башенками. В свое время в Уаргле правила могущественная мусульманская секта ибадитов, основавшая крупнейший рынок работорговли и золота. Местные мастера-умельцы и поныне славятся искусно сработанными сувенирами из кожи, металла и керамики, однако впечатление от города портит изобилие в окрестностях нефтеперерабатывающих заводов. Бесчисленные факелы попутного газа совершенно лишают пространство былой романтики, о которой можно лишь догадываться. Зато здесь мы впервые увидели «розы Сахары» - кристаллические образования, напоминающие настоящие розы. Ренан посоветовал не спешить с покупками. По его словам, места, где эти розы буквально валяются под ногами, еще впереди. Это был один из тех случаев, когда совет оказался толковым.
Были приятно удивлены, столкнувшись на трассе с соотечественниками. Основная масса наших нефтяников трудилась на крупнейшем месторождении Хасси-Мессауд, которое угадывалось в юго-западном направлении по тем же признакам - дымное марево. Однако и здесь частенько встречались водители МАЗов, перевозивших огромные трубы для нефтепроводов. За это их ласково величали «газдюками» (gaz duc - газопровод - фр.). Ребята посетовали на жуткие условия труда, ведь только советские машины не были оснащены кондиционерами.
- А мы вот специально их не включаем, боимся привыкнуть, - мрачно пошутил Гена Давыдов, - считайте, из солидарности с вами!
Оценив масштабы нефтепереработки, путешественники напрочь утратили интерес к местным финикам, несмотря на обилие финиковых рощ и сортов (порядка 150!). Почему-то казалось, что бесследно подобное соседство не проходит. Впоследствии, когда нас переселили из Андалузии в Арзёв - крупнейший нефтепорт и центр нефтепереработки, мы не раз об этом вспоминали.
Читать дальше