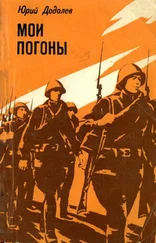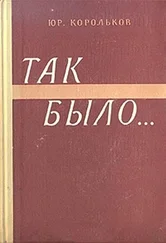— Значит, злой? — Валька удивилась. — Да другого такого добряка на всем белом свете нет. Поругался, что ли, с ним?
— Немножко.
— Э-э! — Валька махнула рукой. — Я иной раз как собака с ним лаюсь. А сойдеть досада — никакой обиды нет. Нас вон скольки, а Егор Егорович один. У одного то, у другого это — и все к нему, потому как в нашем хуторе всего пять человек партийных: он, Дарья Игнатьевна, а других ты не знаешь, их сейчас тута нету — Егор Егорович их всех по делам разослал. Вота и приходится нашему председателю как белке вертеться, все дела самому решать, а ведь он не железный. Слышал небось, что порешили в нашем колхозе? Не слышал? Коровник порешили мы строить — вот что, потому как старый никуда не годный. Порешить-то порешили, а бревна, доски где? С одного самана даже нужник не поставишь. Вота Егор Егорович и хлопочеть, начальство в районе теребить, все нашу жизню старается улучшить. Ненароком попадешь ему под горячую руку — не обрадуешься.
Валька говорила горячо, взволнованно. В этот момент она совсем не походила на себя, на ту Вальку, которую я знал, — веселую, чуточку легкомысленную. Я решил перевести разговор на другое и прервал:
— Хватит о председателе! Лучше о нас поговорим. Скажи вот — верно ли, что Василий Иванович к тебе сватался?
Валька сразу преобразилась. Она метнула на меня взгляд, подавила смешок и спросила:
— А ты откудова знаешь?
— От Кондратьевича слышал.
Валька смело взглянула на меня:
— Три раз а его сватом присылал.
— Ну-у?..
— Ей-богу!
— А ты?
Валька рассмеялась.
— Ко мне, миленок, не один он сватался. Ко мне ой скольки вашего брата в мужья набивались!
— Чего же ты не вышла?
— Подходящего человека не встретила.
— А я?
Валька стала серьезной. Ее глаза излучали густую синеву, на лбу пролегла складка. Она перекинула конец платка за спину и сказала:
— Не поспешай, миленок, в петлю лезть. Ты ишо молоденький, тебе ишо гулять и гулять надоть…
«Начинается, — обиделся я. — Вчера одно говорила, сегодня другое».
Не обращая внимания на посматривающих на нас людей, Валька потрепала меня по щеке, попросила:
— Проводь меня до птичника. Курей кормить пора.
На птичник вела заснеженная дорога. Снег на ней был желтым, перемешанным с конским навозом и соломой. Пока мы шли, Валька сказала, что если бы Егор Егорович не догадался заняться откормом птицы, то колхоз только числился бы на бумаге колхозом. Я слушал Вальку вполслуха. Я думал, чем все это кончится, будем мы вместе или…
Как только мы вошли, куры бросились к Вальке. Они, должно быть, привыкли ней.
— Изголодались, бедняги, — сказала Валька и пошла готовить корм.
Она покормила кур, с жадностью склевавших нарубленные овощи вперемешку с овсом, и мы, не сговариваясь, пошли по протоптанной в снегу тропке в сторону от хутора — к темнеющей постройке, обветшалой, неказистой на вид.
— Сейчас молочка попьем, — сказала Валька.
— А дадут?
— Отчего ж не дадуть? Дадуть.
Мы вошли в коровник, где в стойлах стояли разномастные буренки с выпирающими ребрами. Шла дойка. Молочные струйки тонко динькали о металлические подойники, тяжело вздыхали коровы, с грубоватой ласковостью покрикивали на них доярки — женщины и девчата с натруженными, красными руками. Сквозь дырявую крышу виднелись лоскутки неба, позолоченного солнцем.
— Погодь, — сказала Валька и направилась к укрепленному на стене, сильно измятому, словно побывавшему на войне, рукомойнику с медным хоботком.
Она вымыла руки, плеснула в ведерко два ковша горячей воды, которая нагревалась тут же, в огромном котле, вмазанном в печь. Валькины действия никого не удивили, она, должно быть, часто приходила сюда помогать дояркам.
Опустившись на низенькую скамейку, Валька стала подмывать вымя. Буренка повернула к ней влажную морду. Валька похлопала корову по боку и что-то сказала ей. Потом она вытерла вымя полотенцем, сжала в кулаке сосок и сильно оттянула его. Синевато-белая струйка, тонкая и упругая, ударила в дно подойника. «Пошло молочко», — подумал я. Я только сейчас обратил внимание на Валькины руки. Они были у нее такие же, как у других женщин-доярок, сильные руки крестьянки, познавшие с малолетства тяжелый труд. Я не мог оторвать глаз от ее рук. Глядя на них, я думал, что молоком, надоенным вот этими или другими, но обязательно такими же, как эти, руками, меня отпаивали в госпитале, когда тело было измучено болью и пересохшие губы просили только одного — пить. Недаром с него, с молока, начинается жизнь. Я видел дыры над головой, обвалившийся саман и всем своим нутром ощущал, как трудно работать в этом насквозь продуваемом помещении. «А к лету тут, наверное, другой коровник построят. А может, к осени. Раз Егор Егорович взялся — будет!» Я невольно подумал об этом человеке с уважением.
Читать дальше

![Юрий Шпаков - Это было в Атлантиде [Приключенческая повесть]](/books/28607/yurij-shpakov-eto-bylo-v-atlantide-priklyuchencheskaya-thumb.webp)