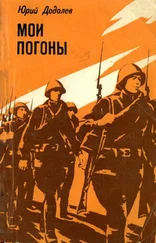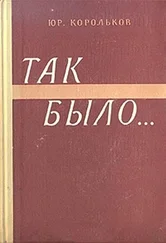Серафим Иванович сидел на кровати скособочась, упираясь протезом в пол. Его лоб был изрыт морщинами, губы шевелились: он, должно быть, считал в уме. Я подумал, глядя на уставленный яствами стол, что живется ему на ять, что такое обилие сейчас может только присниться. Закончив свои подсчеты, Серафим Иванович повернул голову в сторону кухни и крикнул:
— Скоро ли ты тама?
— Сей момент, Иванович, сей момент, — отозвалась Василиса Григорьевна.
Серафим Иванович проскрипел к окну, наклонил стебель с ярким цветочком и сказал:
— А вона и Валька грязь обувкой месит. Враскачку, стерьвя, идет. Глянь-ка!
Я бросился к окну. Валька удалялась. Шла она медленно, глядя прямо перед собой. Чувствовалось, что ей хочется оглянуться.
— Я… я сейчас, — проговорил я и, сопровождаемый хохотом Серафима Ивановича, выбежал вон.
Валька обернулась на мой окрик и сказала:
— А мне уже шумнули, что ты в хуторе. — Она старалась говорить строго, но глаза у нее смеялись, выражая радость, и на душе у меня отлегло. Я еле сдержал себя: хотелось расцеловать Вальку на глазах у всех. Она, должно быть, поняла это и, едва заметно покачав головой, со смехом сказала:
— Ужо к балке приходь. Там шалаш есть, пастухами построенный.
— Когда приходить? — спросил я, ощущая сухость во рту. Я ни о чем не думал сейчас — только о Вальке.
— Как свечерееть, — ответила она. — А теперь ворочайся, а то весь хутор к окнам прилип.
Валька не врала. Я оглянулся и увидел прильнувшие к стеклам лица.
— Плевать! — сказал я.
— На всех не наплюешься. — Валька опять старалась говорить строго, но глаза опять выдавали ее. Васильковые глаза излучали такой мягкий свет, что я на миг онемел.
— Мне жить тут-ка, — добавила Валька и стала поправлять платок, соскользнувший с ее блестящих, будто залитых солнцем, волос.
— Ты в Москве будешь жить! — воскликнул я. — Я увезу тебя!
Валька усмехнулась:
— Москва отсель, миленок, далеко, а наши бабы — вон они: в окна смотрят. Теперя побегуть по хутору пересуды.
— Какие пересуды?
— Разные. Серафим мыслю Василисе кинеть, а она уж раскудахтаеть по всему хутору. — Валька помолчала. — Добрая баба Василиса, но глупая. Серафим как хотишь ею управляеть. Зачем схлестнулся с ним?
— Подзаработать решил.
— Эх, миленок, миленок… — Валька покачала головой. — Вспомни, что Ульяна гутарила: как косточку расшибеть. Она его знаеть. С одной стороны, ей, конечно, лестно такого хапуна в сродственники заиметь, а с другой — боязно.
— Серафим Иванович — фронтовик, — возразил я, соглашаясь в душе с Валькой.
— Брось водиться с ним! — потребовала она. — Брось!
— Ладно, — выдавил я и, подчиняясь возникшей во мне потребности, рассказал, как обыграл меня Серафим Иванович.
— Вот видишь, — сказала Валька. — А пальто твое где?
— П-продал.
— Серафим надоумил?
— Он.
— Я это еще у Ульяны поняла. Я ему, бугаю старому, еще тогда хотела все высказать, да ты помешал.
Я вспомнил, как Валька смотрела на меня в тот вечер, и мне стало стыдно.
— Пустяки, — неуверенно сказал я. — Я скоро себе новое пальто куплю.
— Легко живешь, миленок. — В Валькином голосе было осуждение. — Деньгами расшвыриваешься. Разве так-то можно?
— Шальные деньги — чего ж их жалеть?
Валька вздохнула, окинула взглядом окна.
— Загутарились мы. Хватить людей тешить. А как свечерееть, к балке приходь. Сперва все прямо-прямо, а потом влево свернешь. Понял?
— Понял, — сказал я.
Валька повернулась и, поправляя на ходу платок, пошла в сторону от хутора — туда, где на отгороженном участке бродили куры, много-много кур…
Я услышал скрип протеза и, еще не проснувшись, подумал: «Вот же черт! Нарочно скрипит, чтобы меня разбудить».
— Доколь жениховался вчерась? — спросил Серафим Иванович, когда я разлепил глаза.
Я промямлил что-то, так как не имел никакого представления, в котором часу лег.
Ныло тело, и страшно хотелось спать. И чудился дурман Валькиных волос. Я скосил глаза на подушку и убедился, что ее нет рядом. Я охотно провел бы с Валькой всю ночь на душистом сене, запах которого перемежался с запахом ее волос, однако она сказала сонно, когда мы, утомленные, лежали друг подле друга:
— Пора.
— Еще чуть-чуть, — попросил я.
Под сеном проступала схваченная морозом земляная твердь. Сено лежало тонким слоем, шурша и ломаясь под нашими телами. Умятое кем-то, оно уминалось еще больше, и очень скоро мне стало казаться, что я лежу не на сене, а на плахе — плаха представлялась мне такой же жесткой и неудобной. В ноздри лезла труха, и я расчихался. Валька забеспокоилась, сказала, что я, должно быть, простыл.
Читать дальше

![Юрий Шпаков - Это было в Атлантиде [Приключенческая повесть]](/books/28607/yurij-shpakov-eto-bylo-v-atlantide-priklyuchencheskaya-thumb.webp)