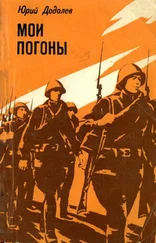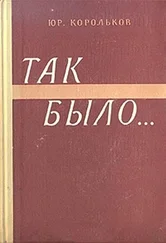«Силен, — думаю, — словно гранатой жахнул!»
У капитана по скулам румянец потек, он что-то сказать хочет, но что скажешь, когда ефрейтор кругом прав, когда он уже не ефрейтор, а просто Зыбин Алексей Андреевич, одна тысяча девятьсот двадцать второго года рождения. На солдат взглядываю: кое-кто одобряет ефрейтора, а кое-кто нет. Я лично и не одобряю, и не осуждаю. Но погоны срывать я не буду. Пускай на память остаются. Тем более что один погон, левый, у меня особенный. Малиновый кант на нем пулей порван. Левый погон у меня приподнимается, когда я плечом шевелю. Вот по нему и шуранула пуля. Если бы немец чуть ниже взял, то амба бы мне. Когда это было? Всего восемь месяцев назад, в Венгрии. «Он» в тот день в контратаку пошел, а мы в лесочке окопались, чуть в стороне от небольшого городка, в центре которого возвышалась остроконечная крыша с похожим на пику шпилем. На самом конце шпиля сидела птица — не то ворона, не то галка. «Ей оттуда все видно», — позавидовал я тогда и почувствовал, как шуранула по погону пуля. От неожиданности я присел и больше не отвлекался…
— Всего вам хорошего, товарищ капитан! — говорит ефрейтор. Нормально говорит, без подначки. — И вам, братва, всего наилучшего! — Ефрейтор делает ручкой и идет вразвалочку к воротам — сват королю, брат министру.
Капитан исчезает, и солдаты колготню начинают. Одни осуждают ефрейтора, другие возражают:
— Чего там? Правильно врезал. Может, у него война в печенках сидит. Может, он не только отца-матери — всей родни лишился.
«Точно, — думаю. — Семьи не найдешь, где бы война свой след не оставила».
Мою семью тоже не обошла война. Год назад бабка от нелегкой жизни умерла, в сорок первом дядя погиб, ополченец. Да и я сам хоть и молодой, но уже не тот, что раньше. Контузия и ранение в челюсть — это не пустячок. Это, как сказала врачиха в госпитале, еще проявит себя. Уже проявляет: в последнее время головные боли участились и нервишки стали как расстроенное пианино. Конечно, в моей семье не то что в других, где матери без сыновей и дочерей остались, где не просохли вдовьи и сиротские слезы.
Во всем нашем доме война крепко пошуровала. В августе сорок первого «похоронка» на соседа — Ивана Васильевича пришла. Потом Костька, вор и голубятник, сын бывшей попадьи, погиб. У Паршутиных отец не вернулся. Сильно убивались Паршутины, навзрыд рыдала попадья, неделю ходила с мокрыми глазами Катюша, жена Ивана Васильевича. Скверно жилось ей, бедной: измывался над ней муж, куском хлеба попрекал и бил. А она, поди ж ты, плакала… Ох и нравилась же мне, мальчишке, Катюша, гибкая, как лоза, и веселая, как частушка! И сейчас нравится! Может быть, оттого, что не повезло мне в любви. Та девчонка, с которой я на одной парте сидел, с которой в кино ходил, которую два года назад поцеловал, другого предпочла. А Катюша верной мужу осталась. За ней многие увивались, а она ни с кем.
Когда я домой вернулся, дверь мне открыла Катюша.
— Здравствуй, — сказала и чмокнула меня в лоб. Нос у нее оказался холодным, а губы горячими, как угли. — Насовсем приехал?
Я стоял истукан истуканом, не отрывая от нее глаз. Мысли путались, и в душе черт те что творилось. Все это, наверное, отобразилось на моем лице — Катюша смутилась, отступила на шаг и крикнула в темный, пахнувший мышами коридор:
— Жора приехал!
Захлопали двери. Кто-то щелкнул выключателем. Тускло осветился коридор — сундуки, корзины, перевернутые ведра, тазы на стенах. Мать выбежала из комнаты, оставив открытой дверь, протянула ко мне руки и заплакала. У меня сжалось сердце и защипало в глазах, когда я увидел ее слезы. Как постарела за эти два года мать, сколько новых морщин прибавилось на ее лице! Я мысленно ругнул себя за то, что иногда ленился написать ей лишний раз, что причинил ей много горя.
— Вернулся? — прошептала мать и шагнула ко мне.
Никогда не забыть мне прикосновения ее рук, тепло ее щеки. Катюша платок к глазам приложила, а Паршутины в голос рыдали. Даже попадья слезу смахнула. Не любила она меня. До войны я насчет религии распространялся. Все, что в школе рассказывали, на кухне выкладывал. Присочинял, конечно, кое-что. Попадья возражала, а я масла в огонь подливал.
— Нехристь! — взвизгивала попадья и убегала жаловаться бабке.
Бабка у меня была строгой и ругать бога не позволяла. Она говорила, что бог — это бог, и утверждала:
— Я тоже верующая.
А я думал: «Неправда!» Я так думал потому, что бабка гимназию кончила, по-французски и по-английски говорить могла, книжки читала, в театры ходила. Все это и бог не укладывалось в моей голове. «Или — или», — думал я. И еще: бабка в церковь не ходила, не молилась и, кроме иконки величиной с ладонь, ничего такого не держала в комнате.
Читать дальше

![Юрий Шпаков - Это было в Атлантиде [Приключенческая повесть]](/books/28607/yurij-shpakov-eto-bylo-v-atlantide-priklyuchencheskaya-thumb.webp)