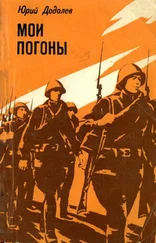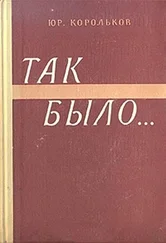Я сгребаю с лавочки листья и сажусь на нее, подперев руками голову. Стараюсь ни о чем не думать. Нельзя же, в самом деле, все время думать, думать. Хочется посидеть просто так, насладиться солнцем, отдохнуть душой. А перед глазами возникает то фронт, то «Шарик». В памяти взволнованные лица товарищей по цеху, мастер. «Раз дал слово, сдержу!» — мысленно говорю ему я.
Мне виден весь двор. «Прекрасная позиция для обстрела, — думаю я и раздражаюсь: — До каких же пор можно думать и вспоминать? Ведь решил: баста»
Появляется Галка Комарова, толкая впереди себя коляску, самодельную, на подшипниках, с виду очень неуклюжую. Галка — моя ровесница. Ей сейчас тоже девятнадцать. Я помню ее тоненькой, шустрой, большеротой. Теперь Галку не узнать. Она располнела, стала такой интересной, что я вначале оробел. У Галки сын. Отец ребенка Гришка Попов — самый некрасивый парень на нашем дворе, мой одногодок. Я не поверил, когда мне сказали… А сказали мне об этом сразу после приезда: сбежались соседи, стали выкладывать новости.
Высокий, вроде меня, с угрюмым лицом, крючковатым носом, похожим на клюв попугая, с густыми и широкими, словно крылья, бровями, с пушком над губой, всегда обкусанными ногтями, Гришка, по мнению большинства взрослых, был никчемным парнем. В школу он ходил от случая к случаю, часто оставался на второй год. Его определили в ремесленное училище, но он сбежал оттуда, все дни напролет слонялся по двору, насвистывая песенки, сочиненные им самим. Он казался тихим, спокойным, но это впечатление было обманчивым. На Гришку иногда находило, и тогда… Он мог пробраться без билета в клуб, когда там показывали кино, мог украсть какую-нибудь безделицу, мог надерзить, налгать просто так. А мне он почему-то никогда не дерзил и никогда не лгал. Я ценил это и доверял Гришке, хотя и не участвовал в его проказах — они не укладывались с тем, что я слышал дома. Ни бабушка, ни мать не навязывали мне своих убеждений, они просто рассуждали вслух о плохом и хорошем, и кое-что из этого оседало в моей голове. И все же меня тянуло к Гришке, наверное, потому, что мне нравились его песенки. Гришка признался мне, что в его голове все время вертится что-то и это что-то превращается в песенки. Он мог переложить на музыку любое стихотворение, если оно нравилось ему. Я легко запоминал стихи, любил читать их вслух, особенно Блока; может быть, именно поэтому Гришка выделял меня среди других ребят: я поставлял ему «сырье» для его песенок.
Я ожидал от Гришки всего, но он даже меня удивил, когда с таинственным видом (дело происходило за сараями, в самом укромном уголке нашего двора) вытащил четвертинку и сказал:
— Давай попробуем?
Я отшатнулся, пролепетал, что водка — гадость: так всегда говорила бабушка.
— Выдумки! — возразил Гришка. — Взрослые пьют, а мы разве хуже? — Он выковырнул пробку, протянул бутылку мне: — Начинай первый.
— Не буду! — крикнул я, чуть не обезумев от ужаса.
— Тише, — прошипел Гришка.
Наверное, в тот момент я что-то потерял в его глазах, но я не мог поступить иначе: пьяные вызывали во мне отвращение.
— Может, все-таки попробуешь?
— Нет!
— Как хочешь, — равнодушно сказал Гришка и сунул в рот горлышко. Сделал глоток, закашлялся, отшвырнул бутылку. Разлетевшись на мелкие осколки, она оставила на стене сарая мокрое пятно. Потом Гришка наклонился и…
Рвало его долго. Казалось, вылезают кишки. И без того смуглое лицо потемнело еще больше, на лбу выступил пот, ноги подкашивались, и весь он, Гришка, одетый в застиранные брюки с пузырями на коленях, в заштопанную рубаху с засученными рукавами, в рваные тапочки, показался мне в эти минуты очень больным, чуть ли не умирающим, и я заревел от страха, от бессилия помочь ему.
— Кончай! — остановил меня Гришка и, стерев со лба пот, предупредил: — Никому не рассказывай об этом.
Я никому, даже бабушке, ничего не рассказал, но Гришкина мать, Раиса Владимировна, в тот день излупила сына, потому что деньги на четвертинку он стащил у нее.
Гришкина мать была неприятной, вздорной женщиной. Грузная, с двойным подбородком, короткой шеей, расплывшимся, как тесто в квашне, бюстом, она со всеми ссорилась, всегда была недовольной, каждый день кричала на кого-нибудь, чаще всего на сына.
Вековуха рассказывала, что во времена нэпа Гришкина мать держала лавочку, безбожно обвешивала покупателей.
— Сама видела, — утверждала Авдотья Фатьяновна. — Без веры в бога жила эта женщина и сейчас живет так. Лавочку отобрали, накопленные денежки, как вода сквозь пальцы, ушли, а больше она ничего не умеет делать, да и не хочет. Сколько разов ей выгодные места предлагали, а она нос воротит. Живет бедно, страмота одна, и злится от этого.
Читать дальше

![Юрий Шпаков - Это было в Атлантиде [Приключенческая повесть]](/books/28607/yurij-shpakov-eto-bylo-v-atlantide-priklyuchencheskaya-thumb.webp)