Как раз в этот период шатаний и колебаний я попал в лапы к заблудшему астрологу [41], который прикинулся, что увидел в моих работах некий великий смысл. В сорочке родившийся, он увлекся эсхатологией, еще и школы не окончив. Под воздействием спиртного, которого был не большой любитель, он до рассвета разглагольствовал об опытах гималайских мудрецов, чья цель была приблизить конец истории, воскресение во плоти и возрождение всех аватар [42], от первой до последней. Под его руководством я научился писать не только левой рукой, но и с завязанными глазами. Теперь меня бросает в дрожь, стоит лишь вспомнить о результатах, достигнутых благодаря советам этого страстного любителя эсхатологии. Впрочем, одной цели он таки добился, а именно освободил меня от пут перфекционизма. С этого момента мне была прямая дорога к гнезду соловья.
Мой угуису , как японцы называют соловья, имел не только прекрасный голос, но еще и пристрастие к укиё-э [43], сябу-сябу [44]и самым темным глубинам древнеанглийского языка. Трудно было придумать что-нибудь такое, чего она еще не видела, о чем еще не читала или не слышала. Ночью, когда она исчерпывала свой репертуар, я ложился спать, мурлыча какую-нибудь из сентиментальных песенок, которыми она заражала меня. («На свете не было сильней такой любви – любви моей».) Перед рассветом я вскакивал со своего ложа экстаза и писал акварелью, чтобы вечером принести картину ей. Я еще не достиг стадии Бессонницы. Это все были плоды эйфории, время от времени прерывавшейся поллюционным сном, в котором видение архетипической матери чудовищным образом смешивалось с видением соловья.
Чтобы придать еще больший размах бреду, я, как наркотику, предался музыке Скрябина, до глубины души потрясенный его неразрешенными квартами и радужно-кокаиновыми сверкающими эффектами верхних обертонов. Одновременно я взялся перечитывать романы Кнута Гамсуна о безответной любви, особенно его «Мистерии». Я вновь представлял себя еще одним герром Нагелем со скрипичным футляром, набитым грязным бельем. Направляясь на ежедневное свидание, я повторял его памятные слова: «Доброе утро, фрекен, вы разрешите мне вас ущипнуть?» Любого пустяка достаточно было, чтобы я завелся, даже японского календаря. Я был как заколдован, ослеплен. Я дошел до того, что даже купил майоликовый ночной горшок, которым так и не воспользовался. Бреясь, корчил рожи своему отражению, дабы лишь доказать себе, что могу казаться счастливым безумцем, если захочу.
Кончилось все сломанным пальцем на ноге, воображаемыми телефонными звонками – и Бессонницей. Я уже созрел для того, чтобы уподобиться Сведенборгу, иными словами, превратиться в мистико-скорбный Gestalt [45]. Стая ангелов кружила вокруг меня, как пьяные голуби. Я заговорил, свободно и грамматически безупречно, на языках, которые давно забыл. До и после завтрака я ходил в синагогу, где меня исповедовал покойный Бааль-Шем-Тов [46]. За ланчем встречался с Гаспаром Из Тьмы [47], облаченным в костюм Жиля де Реца [48]. Одной ногой я стоял на лестнице Иакова, другая же тонула в выгребной яме. Короче говоря, я готов был расползтись по швам.
В таком вот дисгармонически-демоническом состоянии начал я писать свои акварели, сочетающие слово и образ, которые, как я уже сказал, ни то ни се, невесть что, но «единосущны», «проницаемы и порочны». Именно при этом состоянии духа Синяя птица и ночная бабочка соединились в блаженном союзе, и помогали им гурии, дивы и одалиски. Это случилось в ночной час, колдовской час, когда Дракон пересекает круг небесной сферы и трансвеститы начинают подражать чувственной любви. Жажда совершить нечто insolite и нелепое достигла апогея. Я видел себя не иначе как старым конем, каким-нибудь одром; вот он – поднялся на дыбы, из ноздрей пышет пламя. (А мой угуису ? Возможно, она полировала в это время ногти или занималась тем, что переводила заработанные за ночь доллары в воображаемые иены.) Как бы я ни представлял ее себе, это служило мне отличным раздражителем и изощряло словарь. Рисуя, я говорил с ней по-японски, на урду, чокто [49]или суахили. Я одновременно превозносил и поносил ее. Иногда, равняясь на Босха, я, как истинно посвященный, изображал ее внутри песочных часов, где кишели пауки, мотыльки, муравьи и тараканы. Но в любом окружении вид у нее был ангельский, невинный и загадочный.
В пять утра обычно звонил будильник, и это было сигналом бросать кисть и принимать снотворное. Я забывался легким сном, продолжая и во сне писать слова и образы или придумывать бессмысленные кроссворды. Порой я пытался составить астрологическую таблицу себе на грядущие месяцы, но без успеха. Постепенно мысль об anima , ее анима, постоянно преследовавшая меня, умерла от истощения. Вместо еженощной мазни я пристрастился к игре на рояле, начав с Черни и продолжив Лешетицким и его однокорытником лордом Бузони [50]. Я все транспонировал в фа-диез-минорную тональность и от усердия обломал себе ногти. В той же манере я наконец изгнал из себя диббука [51]и убрал его в архив. Я научился жить с Бессонницей и даже извлекать из нее пользу. Напоследок осталось освободить соловья из золоченой клетки и спокойно свернуть ему шею. После этого мы жили долго и счастливо, как бывает при настоящей любви.
Читать дальше
![Генри Миллер Замри, как колибри [сборник] обложка книги](/books/423532/genri-miller-zamri-kak-kolibri-sbornik-cover.webp)




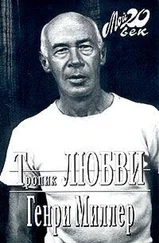


![Генри Миллер - Этот прекрасный мир [сборник]](/books/416436/genri-miller-etot-prekrasnyj-mir-sbornik-thumb.webp)
![Генри Миллер - Мудрость сердца [сборник]](/books/423531/genri-miller-mudrost-serdca-sbornik-thumb.webp)