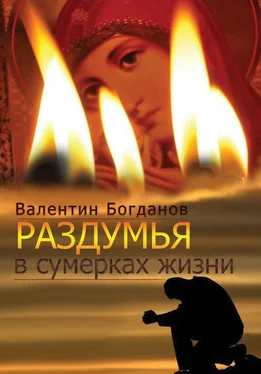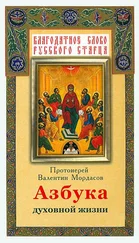Смотрю на наши парады на праздничных площадях, на состарившихся ветеранов войны, до неприличия увешенных орденами до пупа, но заметно уже помятых старческой жизнью. А все ещё хорохорятся, бодряками шагают в первых парадных рядах, и правильно, так и надо, честно заслужили этот почет! Но хорошо знаю, что окопных солдат и офицеров, воевавших на передовой, так щедро во время войны орденами и медалями не награждали по одной дурацкой причине – окопники каждый божий день без счёта в боях погибали, и награждать их не было смысла. А награждали после боя штабных и тыловых вояк, которым на передовой не было особой нужды бывать, особенно во время боя. Они себя берегли и всегда были на глазах у начальства, живые и здоровые, их и обвешивали наградами за подвиги, которые совершали погибшие. Вот они-то нам сегодня и рассказывают, как воевали, при этом о войне имеют смутное представление.
Пусть ветераны войны, шагающие в парадных рядах, на меня не обижаются, если я скажу, кому по праву положено идти на параде в первых рядах. По моему теперешнему мнению, первыми на праздничную площадь в этот слезный праздник должны выходить вдовы военной поры, и все должны перед ними вставать на колени и приклонить голову за те муки и страдания от непосильной работы, что они перенесли за время войны с осиротевшими детишками на руках. Этому подвигу наших вдов нет равного на свете, и вряд ли он когда кем повторится. Да как от нынешней власти этой справедливости можно добиться! Кричи – не докричишься!!! А если и докричишься, то вдов военной поры в живых почти не осталось. Ушли они из жизни молча, никого и ни в чём не упрекая, и некого из них теперь на парады приглашать. Как всегда, позорно опоздали, но остались для участия в парадах в своём большинстве лишь штабные и тыловые орденоносцы.
Только раз за весь застольный разговор озарилось мимолетной улыбкой лицо Анастасии, когда рассказывала о сыновних подарках, поскольку он одарил их всех разным иноземным барахлишком, которое ему оказалось по деньгам. Само собой, девчонки в голос разревелись от радости. Оно и понятно, житуха в те годы была бедной и безрадостной, особенно насчет одежонки худо было, и больше у тех, кого осиротила война, а их тогда было не сосчитать и нужду их ничем не измерить. Ведь наша несгибаемая власть этими мелочами себя никогда не озадачивала, больше парила в державных высях и на боль народа-победителя, его страдания не реагировала, как следовало бы. Свой народ с голода пух, а «друзьям» из так называемых соцстран гнали эшелонами всё, что им было нужно.
А у моих охотников все поначалу шло как надо. Шли ходко и вскоре по приметной тропинке спустились в глухой овраг, где было совсем темно, сыро, пахло прелью и где-то невидимо журчал ручей. Чуть погодя, остановились у поваленного дерева, разом присели и, не сговариваясь, закурили.
– Рано еще, – глухо сказал Ромка, – пущай чуть развидняет, а я приткнусь тут да кимарну маленько, потом разбуди, как итти приспеет.
– Да ладно тебе, кимарь вволю, я и один мотнусь по распадку, ково тут, каждая кочка знакома.
Ромка не помнил, сколько он времени дремал, но какая-то неведомая сила вдруг подбросила его, и он оказался на ногах, спросонья тупо соображая, где находится и что его разбудило. Огляделся – ни Шурки, ни собаки не было, а утро уже набирало силу, наполнялось привычными звуками. Неожиданно впереди, выше по распадку, одиноко грохнул далекий выстрел, раскатисто прокатился по распадку и где-то в вышине на издохе оборвался. И тут, издали, из мрачной утробы распадка, слабо донесся срывающийся человеческий вопль: «Аам-ма!» – полный отчаяния и мольбы о помощи. От неожиданности Ромка замер и, затаив дыхание, прислушался, а голос все наполнял и наполнял своим истошным воплем утреннюю тишину, страдал и звал его на помощь. Ромка вздрогнул и тут же ошалело сорвался с места, бросился напролом, через колючий кустарник и густые мелкие деревья, обдирая до крови руки и лицо, потеряв из виду тропинку. Бежал он, задыхаясь, пот катился по лицу градом, застилая глаза, а он рвался изо всех сил на страдающий Шуркин голос. Неожиданно впереди мелькнул просвет, деревья расступились, и из небольшой ложбинки, заросшей густым, непроходимым малинником, рванулся навстречу Шуркин вопль, холодящий душу пристигнувшей его бедой. На бегу окинув мельком взглядом ложбинку, Ромка увидел, как у кромки ручья, вокруг низкорослой старой сосны, урывками мелькала Шуркина коротко стриженая голова, а за ним, в замедленных прыжках, метался раненый медведь с окровавленной мордой и когтистой лапой, хватал по Шуркиной спине и каждый раз отваливался от ускользавшей жертвы. Окровавленными клочьями белела на Шурке не то его исподняя рубаха, не то изодранная в клочья спина. Ромка на ходу перезарядил картечью ружье, смахнул застилавший глаза пот, прицелился и почти в упор жахнул из обоих стволов. Медведь будто споткнулся, остановился, ткнулся мордой в траву и медленно завалился на бок, засучил по земле лапами и задрожал в предсмертных судорогах. А Шурка продолжал все бегать вокруг сосны, перепрыгивая через убитого медведя, и хриплым осевшим голосом истошно взывал о помощи. И только сейчас Ромка по-настоящему испугался, увидев вблизи Шуркины обезумевшие глаза, полные невыразимого отчаяния и боли, и у него враз ослабели ноги, внутри будто что-то оборвалось.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу