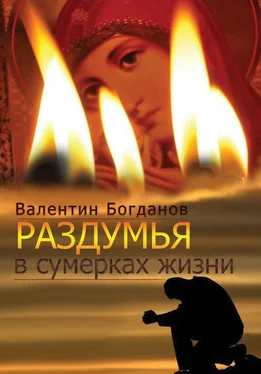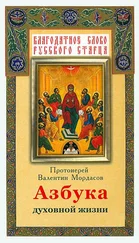– Да выйди ты к ним, Шура, уважь девчонок! – говорили ему гости.
Но закуражился тогда мой племяшок и говорит мне:
– Нет, дядя Коля, седни я с ними шпрехать не буду, пока со всей родней не пообщаюсь, а вот завтра… завтра! Ой, чё только буди-ит, чё я с ними делать стану, сроду не догадаетесь…
Тут и начал он хохотать, аж до упаду, до слез. А Катерина моя и зашептала мне на ухо:
– Пошто это, Коля, он сёдни так ухохатывется, сроду таким не был, вроде как перед бедой какой, даже боязно.
– Да ладно жужжать, – одернул ее, – пущщай покуражится солдат, раз такой случай ему выпал, апосля на душе у него от этого полегчает.
Потом гляжу, а мой Саня высунулся в окошко и с кем-то завлекательно разговаривает, да тут же и на улку засобирался, а глаза в глаза не глядит, отводит. Глянул в окошко: стайки девчонок нет, упорхнула, а у палисадника в сторожевом ожидании в одиночку прохаживается Аринка Еблашкина, девчонка наша деревенская, с фамильным матерным прозвищем за то, что всем без разбору давала. Вот ее наши же самцы-поганцы и прозвали таким срамным прозвищем. Ведь на выхвалку между собой, это дурачьё, потешалось над её слабостью, а потом всюду брехали об этом безо всякого стыда в бесстыжих пропойных глазах. Вот она, доброта наша деревенская хваленая. Противно было слышать и смотреть на это, что свои же, деревенские, испоганили ей жизнь, можно сказать в грязь втоптали, да ещё такое позорное прозвище присобачили, что за всю жизнь невозможно было от него избавиться. И вышло, что прожила Аринка свою горемычную жизнь вроде среди людей, а будто среди зверья, и хужей ее жизни, наверное, и у скотины не бывает. По отцовой-то фамилии она Вычужанина. Её отец, Захар Тимофеевич, мой ровесник, на войне погиб, а мать тут же вскоре от голода и нужды померла.
Вот и осталась она с четырнадцати лет одинешенька, и пошла робить на колхозную ферму, и как надела с девичества резиновые сапоги да фуфайчонку, так и не снимала всю жизнь. Путнего пальтишка не износила, хотя в ударницах числилась, и вроде неплохо ей платили, да больше пропивала с нашими же, деревенскими оболтусами, чем на себя тратила. И сейчас, в пятьдесят с небольшим, совсем больная да испитая, на старуху своим видом походит, и держат ее нынче на ферме сторожем, больше никуда не годится.
И вот ведь, коза блудливая, что-то там сморозила тогда Шурке в окошко, хохотнула разок-другой, покрутилась, повихляла перед ним, он и учуял легкую поживу, и скорёхонько к ней засобирался. Да так заторопился, что еле всей родней уговорили не ходить к ней, посидеть с роднёй, приехавшей с ним встретиться. К тому же он Ромку попросил завтра поутру сходить с ним на охоту на рябчиков, в Сухой лог. Тут недалече, и вставать надо было рано. Это его и остановило.
Ночью вышел во двор, небо вызвездило, на землю лег туман, и день обещал быть славным, как в бабье лето, да оно уже и приспело. Я разбудил ребят в самую рань, как только на небе засветлело. Вставали нехотя, что-то там ворчали про себя, но собрались скоро и молча, ушли со двора. Советовал племяшу взять мою двустволку, но тот отказался, взял одностволку – «ижевку», двадцатого калибра, привычную, говорит, с детства и на рябчиков в самый раз.
Только проводил их, управился по хозяйству, уже и утро заиграло, и собрался почаевничать, как неожиданно объявилась в дверях Шуркина мать Анастасия с испуганным лицом и, как вошла в избу, так и плюхнулась в бессилии на лавку. Я от неожиданности обомлел, думал, какая беда у нее дома случилась.
– Да нет, – говорит, – об сыне извелась, двато денечка всего и погостил дома, и к тебе укатил, а каково мне одной без него быть, вот и погощу у тебя, и вместе с ним домой вернусь.
– Совсем ладно, ты Анастасия, сделала, что приехала, говорю ей, – двойной праздник у нас нынче выйдет, садись за стол да перекуси с дороги, и будем поджидать наших охотничков. А как придут, в баньке усталость сгонят, так и маленький праздник устроим, как в ранешные времена случалось, поди-ка не забыла?..
Прослезилась, отерла глаза платком, пригорюнилась и тяжко вздохнула, наша невестка, плясунья да певунья в те довоенные годы. Смотрю на нее – и узнаю и не узнаю, так упластала ее вдовья жизнь. Приметно усохла, будто увяла, глаза потухли, да ещё сгорбилась и, какая-то стала тихая, вроде пришибленная. И так её жалко стало, что душа дрогнула, и башкой закрутил от смущения, потянулся за куревом. Говорить нам вроде не о чем, и так все было понятно, что, ей-богу, лучше было помолчать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу