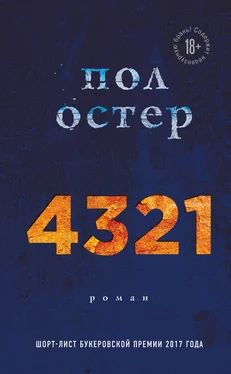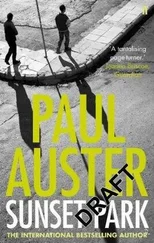Мэри больше не было, она собиралась вскоре выйти замуж за неглупого сеньора по имени Боб Стантон, тридцатиоднолетнего помощника районного прокурора из Квинса, человека гораздо более солидного, нежели тот, кем мог когда-либо стать Фергусон, решение вполне мудрое, чувствовал он, но тем не менее эта боль потребует больше времени, чтобы утихнуть, нежели понадобится его сломанным костям, чтобы срастись, а раз Мэри больше не было, в Нью-Йорке его теперь ничего и не держало, ничто уже не вынуждало его и дальше работать маляром на мистера Мангини, потому что Говард и Ной наконец-то поставили ему на место мозги той ночью их совместного запоя, и он сменил курс своих размышлений об отцовских деньгах, неохотно согласившись с друзьями, что не принимать деньги эти будет оскорблением. Отец его умер, а мертвые больше не могут защитить себя. Какие бы ярости ни накопились меж ними за годы, отец включил его в свое завещание, а это означало, что он хотел, чтобы Фергусон взял эти сто тысяч долларов и распорядился ими по своему усмотрению, понимая, что усмотрение в данном случае означает жить на эти деньги, чтобы продолжать писать, наверняка же его отец это понимал, рассуждал Фергусон, а правда заключалась в том, что теперь в нем осталось мало гнева, и чем дольше отец его оставался мертвым, тем меньше злости он чувствовал, и сейчас, через полтора года, ее уже осталось в нем так мало, что она почти совсем исчезла, и то место, какое раньше занимала злость, теперь заполнилось печалью и смятением, печалью, смятением и сожалением.
Это было много денег, таких денег хватит, чтобы жить на них много лет, если он будет аккуратно их тратить, и Говард с Ноем хорошенько подчеркнули важность этих денег, мудро советуя проявить побольше терпения по поводу отвергнутого романа (которому Линн Эберхардт наконец нашла пристанище в начале февраля, пристроив его в «Колумбус», маленькое, бестрепетное сан-францисское издательство, шедшее поперек общего потока, — оно работало с начала 1950-х годов), но больше всего — понимание того, что деньги позволят Фергусону сделать шаг, который принесет ему в нынешних обстоятельствах больше всего пользы, и покуда томился в доме на Вудхолл-кресент и всматривался в тот мазок возможностей, какие ему предлагали эти деньги, он постепенно сместился на точку зрения своих друзей: настал миг ему выбраться из Америки и посмотреть мир, оставить огонь позади и съездить куда-нибудь еще — куда угодно.
Еще две недели Фергусон колебался и обдумывал, одно за другим сокращая многообразие этих куда-нибудь с пяти до трех, а потом и до одного. Последнее слово оставалось бы за языком, но хоть по-английски говорили в Англии, по-английски говорили в Ирландии, он сомневался, что будет счастлив жить в каком-нибудь из этих промозглых мест с влажным климатом. В Париже, конечно, тоже, бывает, идут дожди, но французский — единственный другой язык, на котором он умел разговаривать и читать со сносной беглостью, и поскольку ни разу ни от кого не слышал ни единого скверного слова о Париже, он решил рискнуть там. Для разминки съездит в Монреаль, ненадолго навестит Лютера Бонда, который был жив и здоров в своей новой стране, убедил администрацию принять себя в Макгилл примерно в то же время, когда Фергусон поступил в Бруклинский колледж, и теперь, закончив его, работал учеником репортера в «Монреаль Газетт» и жил с новой подружкой по имени Клер, Клер Симпсон или Сампсон (почерк Лютера часто бывало трудно разобрать), и Фергусону аж не терпелось съездить на север, не терпелось съездить на восток, не терпелось исчезнуть отсюда.
Он прикинул, что сможет снова свободно ступать на лодыжку к концу января, а это даст ему массу времени на то, чтобы освободить квартиру на Восточной Восемьдесят девятой улице и подготовиться к большому переезду.
А потом, первого января, когда Фергусон уже собрался в первый раз позавтракать в новом десятилетии, мать рассказала ему шутку.
То был бородатый анекдот, очевидно, он болтался по еврейским гостиным много лет, однако по какой-то необъяснимой причине Фергусону он раньше не попадался, как-то так вышло, что он никогда не бывал ни в одной из этих гостиных, когда кто-нибудь его рассказывал, но в то новогоднее утро 1970 года мать наконец-то поделилась с ним в кухне этим анекдотом, классической историей о молодом русском еврее с длинной непроизносимой фамилией, который прибывает на остров Эллис и там заводит беседу с ланцманом постарше и поопытней, и когда молодой сообщает старику свою фамилию, тот хмурится и говорит, что такая длинная и непроизносимая фамилия никак не поможет ему обустроить новую жизнь в Америке, ему нужно сменить ее на что-нибудь покороче, что-нибудь звучащее славно, по-американски. Что вы предлагаете? — спрашивает молодой. Скажи им, что ты Рокфеллер, отвечает старик, с такой фамилией не промахнешься. Проходят два часа, и когда молодой русский садится на собеседование с иммиграционным чиновником, он уже не может выудить из памяти ту фамилию, какую ему посоветовал назвать старик. Ваша фамилия? — спрашивает чиновник. Хлопнув себя по голове в расстройстве, молодой человек выпаливает на идише: Ikh hob fargessen (Я забыл)! И вот чиновник с острова Эллис отвинчивает колпачок на своей авторучке и исполнительно записывает в свою книгу: Ихабод Фергусон.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу