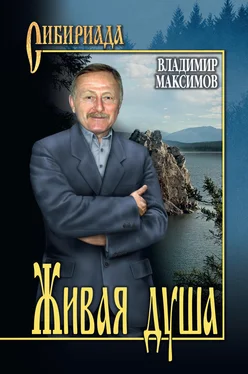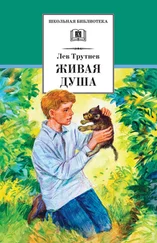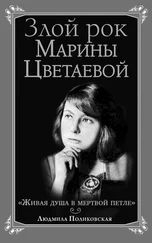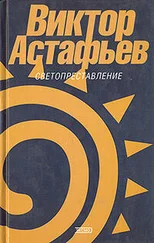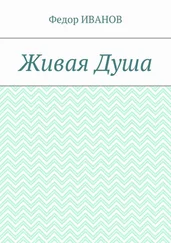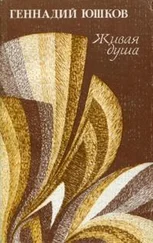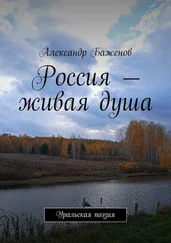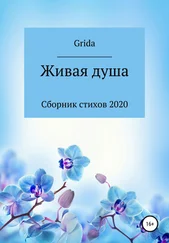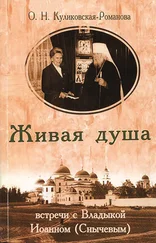Идти до школы даже самым неспешным детским шагом было минут пятнадцать-двадцать.
Маршрут наш пролегал – сначала по улице Сурикова. И я рассказывал сыну о том, что знал сам, об этом прекрасном художнике, тоже, как и мы, сибиряке и – о его великолепных и страшных картинах. Таких, например, как: «Утро стрелецкой казни», или «Меньшиков в Берёзове», или «Боярыня Морозова»… В связи с последней картиной я рассказывал ему о церковном, а затем и народном, расколе, принёсшем России бед не меньше, чем государственный большевистский переворот 1917 года, названный впоследствии пришедшими к власти Великой Октябрьской революцией. И о несгибаемой воле «старообрядцев»… То есть старался напитать сынишку, когда и мозг, и сердце, и душа ещё так восприимчивы к добру, не тем, о чём мне приходилось писать в своей газете, а тем, о чём я стремился писать в рассказах…
Шагая по улице Сурикова, мы проходили мимо двухэтажного, запущенного ныне, особняка Русско-Американской компании, образованной в 1799 году для пушного и зверобойного промысла на северных островах Тихого океана и Аляски русским купцом Григорием Шелиховым. И я рассказывал Димке о русском форте Росс в Калифорнии и о Русской Америке… Доходили до Вечного огня с его трепещущими на ветру красновато-желтовато-синеватыми «лепестками» пламени, с лёгким шипеньем вырывающимися из круга в центре большой металлической звезды, расположенной на возвышении, сделанном из красноватых мраморных тяжёлых плит. У подножия этого сооружения, со всех его четырёх сторон, на подстриженной зелёной травке, наклонно лежали небольшие светлые бетонные плиты, с выбитым на них «золотыми» буквами текстом: «Сибирякам, погибшим за Францию», Венгрию, Румынию, Югославию, Польшу…
«Да, где только не сложили головы наши земляки…»
Напротив Вечного огня, с обратной стороны здания областной администрации, на вертикальной гранитной плите металлическими буквами были выписаны имена уроженцев Иркутской области, Героев Советского Союза, погибших в той страшной, второй по счёту в ХХ веке, мировой войне 1941–1945 годов.
Предпоследним в не коротком списке героев значился «Младший сержант Чумаков Андрей Петрович». Односельчанин и друг детства моего отца, тоже захватившего войну. Только не на западе, с Германией, а на востоке, с Японией. И не танкистом, как его друг, а пехотинцем.
Говорил я сыну и об этом…
Ему было приятно о чём-то рассказывать, потому что он был не только внимательным, но и благодарным слушателем. А после моего упоминания о войне обычно говорил: «Когда к деду поедем – надо, чтобы он всё подробнее рассказал и показал свои награды». Да, дед тогда ещё был жив…
Сынишке особенно нравилось, что у моего отца, кроме всего прочего, была медаль «За отвагу»… Наверное, потому, что ему самому хотелось быть отважным, как храбрый оловянный солдатик из сказки Андерсена, которую он тогда читал по слогам. Ведь сам он среди сверстников особым смельчаком не считался, хотя и слюнтяем тоже не слыл. Словом, был обычным мальчишкой, которому посчастливилось родиться в переломные для страны восьмидесятые годы такого непростого двадцатого века, который не раз уже уверенно шагал по людским костям.
Миновав огромный серый квадрат здания областной администрации, построенного на месте разрушенного в тридцатые годы двадцатого века кафедрального собора, мы, перейдя тихую улицу, подходили к бывшему польскому костёлу, а ныне – Органному залу областной филармонии, где давали концерты музыканты со всего света. И который, как высокая тёмная ель, тянулся вверх и выглядел мрачновато из-за потемневших за время его жизни кирпичей…
Дальше наш путь лежал вдоль полукруглого, блещущего затемнёнными зеркальными стёклами, здания «Иркутскэнерго», до пешеходного перехода через широкую улицу, перейдя которую, мы продолжали свой путь по улице Сухэ-Батора, монгольского революционера, и шли мимо старинного особняка, построенного купцами Трапезниковыми в девятнадцатом веке «для нужд города», в котором теперь располагался биолого-почвенный факультет госуниверситета. Его в своё время и закончила Наталья.
– Мама училась здесь, а ты где? – спрашивал сын.
– Я, Димыч, учился у самого лучшего учителя – у жизни, обычно отшучивался я, не вдаваясь в подробности о том, что в 1972 году, тоже в Иркутске, закончил единственный в тогдашнем Советском Союзе факультет охотоведения, а потом и Литературный институт в Москве. Успев ещё поучиться, между двумя вузами, в аспирантуре Зоологического института, расположенного на стрелке Васильевского острова, в Ленинграде-Питере, всерьёз подумывая о научной карьере.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу