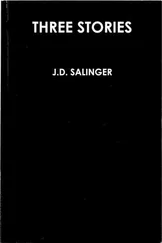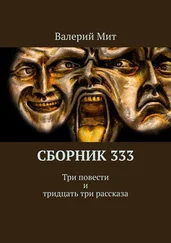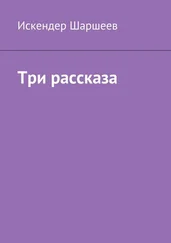Дверь на втором этаже подалась, не заперта.
Лица оборотились, а увидел только маму — шагнула, подняв руки, обнять меня.
— Час назад, — словно извинялась, — лежала еще такая красивая, спокойная, давно такой не помню.
Традиции утеряны и вместо савана, в нем хоронили ее предков, простыня к подбородку. Черты чужие. Знакомы только густые седые волосы и широкие брови. А на фото рядом— «Фотография И. Упаткина въ Красноярскъ домъ Франкфуртъ 1905» — свадебное платье с длинным шлейфом, от груди до подола ветка с мелкими цветами и темны ми листьями, похожими на застежки. Под ее рукой в белой перчатке высокий красавец, лихо закручен ус. Никогда бы не подумал, что этот респектабельный господин, мой дед, всего лишь приказчик винного склада…
На другом фото большой обеденный стол. Мама с моим отцом, какие-то родственники. Бабушка с девочкой на руках. Двухлетняя девочка в длинных светлых кудряшках — я, ее первый внук.
Такой буся и оставалась, только седела, подсыхала, кашляла и ворчала, слова находя не сразу, будто вспоминая: «Сыми, — это мне, выросшему из девочки, — бороду про клятую. Стариком будешь, так еще наносишьси».
…Запах смолы и пыльной пакли в бревенчатом подъезде. Темный силуэт на светлом фоне входного проема спрашивает: «Дома?» И почтальонка скрывается за дверью.
Когда вернулся, мама плачет, слабо пытаясь освободиться из рук бабушки. У той слезы в немигающих глазах, и будто всматривается далеко, куда маму не отпускает.
Темный силуэт принес похоронку на отца, погибшего под Смоленском.
Горе от потери близких — и жалость к самому себе, еще камень выпал из укрывной семейной стенки… От родового ствола, уходящего в немыслимую даль, крошечный отросток — бабушка, мама, я — укоротился на треть.
По тесному маршу, обтирая плечами стены, снесли гроб, зарядили автобус-катафалк, чтобы на нем же, порожнем, опять готовом к залпу, вернуться с кладбища. Там кричат вороны, ревут авиалайнеры по соседству с вечным покоем. За первым комом земли другой, третий… Лопаты сноровисто гребут песок. Снежная пыль катит по черному асфальту, белой пеной прибивается к бордюру.
…У нас скромные поминки, а в соседнем подъезде свадьба. Без шапок и пальто высыпали в дворовый сквер, галдят, смеются, стреляют петарды.
Не своим светом вспыхнула вдруг лампочка и над нашим столом, чтобы с коротким звуком, похожим на слабый стон, навек погаснуть.
Звонил в поселковом магазине.
— Кто убил? — спросила трубка.
— Я, я убил. Меня? Давид Исакович! Моя? Коглис.
…До электрички сидели у пруда. Крыло ржаных волос Алиса откидывает кивком, или неспешно отводит тонким пальцем.
Молодые листья берез по берегу еще не «народ» — каждый личность, самостоятельный светло-зеленый мазок на темно-зеленой еловой палитре. Будто тяжелые капли дождя птицы срываются с верхних веток на нижние и листья вздрагивают, их легкое шевеление видится Коглису слабым зеленым дымом.
Может и случайно коснулся ее колена, но обожгло — так отдергивают, невольно, руку от огня…
Алису проводил, от станции, возвращался лесом к одинокому дому на поляне. У тропы мужик палкой дубасил лошадь, та пятилась, вырывалась — тянул повод, наматывал на кулак.
Давид Коглис наивно удивился:
— Чего крушишь скотину безгласую?
— Шундарну и тебя, очкарик хренов. Беги, пока живой.
Человек в синей майке отвлекся. Лошадь вздыбилась — едва успел выпустить повод, схватился за плечо, рыча и матерясь.
Коглис повернул к дому, не ускорил шаг. У крыльца обернулся.
Синяя майка лечила плечо ладонью.
И почти сразу топот сапог, грохот в дверь — долго не продержится.
За печкой хозяйский карабин, рядом единственный патрон, если не отсырел.
Треск выбитой филенки — откинута задвижка веранды.
Синяя майка на бретеле, другая болтается, разорвана.
Сумасшедший? Пьян? А шагает твердо, карабина не видит. В руке нож.
Разделяет стол с тарелками — опрокинулся грохот посуды.
Пора жать спуск. Ни страха, волнения… Все-таки — нет, невозможно в человека…
В сторону ствол отвел и перехватил руку с ножом. Откуда сила не поддаваться этой злобной морде!
Опущенный приклад задел пол — оглушил выстрел.
Мужик скорчился, рухнул, локти и ноги к животу.
Теперь страх догнал Коглиса. Колотил, рвал внутренности — до тошноты: кровь под человеком пахнет порохом…
… Приехали раньше, чем он вернулся из поселкового магазина. Носилки с громилой задвигали в «скорую».
Читать дальше