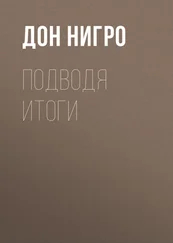Патрик ощутил знакомое чувство близости и одиночества, сознавая, что хотя они сейчас вместе, но вот-вот расстанутся.
– Ты с нами поедешь? – спросил Томас.
– Нет, мне надо на работу, – ответил Патрик.
– Ну пожалуйста, – попросил Томас. – Я хочу, чтобы ты мне что-нибудь рассказал.
– Увидимся в выходные, – сказал Патрик.
Роберт стоял молча, зная больше, чем брат, но не совсем понимая.
– Приходи к нам на ужин, – сказала Мэри.
Патрику хотелось согласиться и хотелось отказаться, хотелось быть в одиночестве и в компании, хотелось быть с Мэри и вдали от нее, хотелось, чтобы хорошенькая официантка оценила его независимый образ жизни и чтобы дети знали, что растут в сплоченной семье.
– Я, пожалуй, лучше отдохну, – сказал он, погребенный под грудой противоречий и обреченный сожалеть о любом сделанном выборе. – Сегодня очень долгий день.
– Приходи, если вдруг передумаешь, – сказала Мэри.
– Вот именно, – сказал Томас, – как все думы передумаешь, так и приходи. Только поскорее.
Патрик поднимался в свою каморку – приспособленное под жилье крошечное чердачное помещение с наклонными стенами на пятом этаже узкого викторианского особняка в Кенсингтоне, – словно бы возвращаясь к началу эволюционной лестницы, с каждым пролетом сутулясь все больше и больше, так что на верхней лестничной площадке едва не касался костяшками пальцев ковра, как некий доисторический гоминид в африканской саванне, который еще не освоил прямохождение и лишь изредка опасливо спускался с верхушек деревьев на землю.
– Блядь, – выдохнул он, с усилием поднимая голову на уровень замочной скважины.
Пригласить в эту дыру хорошенькую официантку было невозможно, хотя номер ее телефона лежал в кармане, совсем рядом с тревожно бьющимся сердцем. Нет, она слишком молода, чтобы выползти из-под трупа мужчины средних лет, который умер, пытаясь оправдать ее утомительное восхождение в его неадекватное жилище. Патрик повалился на кровать и обнял подушку, представляя, как измятые перья и пожелтевшая наволочка превращаются в гладкую теплую шею. Трепетный афродизиак кончины, бесконечная галерея замен, заменяющих замены, мучительная жажда утешения – все это было безмерно знакомо, однако он мрачно напомнил себе, что вернулся не-домой, что наконец остался в одиночестве, чтобы быть неутешенным. Эта квартирка, холостяцкий приют не-холостяка, студенческая каморка не-студента, вполне подходила для того, чтобы упражняться в неутешении. От постоянной напряженности, долгие годы существовавшей между зависимостью и независимостью, между домом и приключениями вдали от дома, можно было избавиться, лишь научившись считать все своим домом, одинаково ровно взирать на яростное самолюбование каждого настроения и происшествия. Да, ему было чему учиться, ведь стоило остаться без любимого масла для ванн, как тут же хотелось разбить ванну кувалдой и бежать к врачу за валиумом.
Тем не менее Патрик лежал на кровати и размышлял о своем упорстве, воображая себя крылатой ракетой «томагавк», со свистом несущейся над лесами и поражающей цель так, что вспышка ядерного взрыва выжигает облака на многие мили вокруг. Он с глухим стоном сполз с кровати и уселся в черное кресло у камина. За окном на противоположной стороне комнаты виднелись сланцевые крыши на склоне холма, насадки над дымоходами металлически посверкивали в лучах закатного солнца, а вдали, в Холланд-парке, чернели кроны деревьев с тугими набухшими почками, еще не превратившимися в зеленоватую дымку. Прежде чем звонить официантке – он вытащил из кармана листок с ее телефоном и именем: Хелен, – прежде чем звонить Мэри, прежде чем отправиться на долгий успокаивающий ужин, прежде чем сесть за серьезную книгу в тусклом свете, под безумный грохот музыки, прежде чем сделать вид, что важно следить за событиями, происходящими в мире, и включить новости, прежде чем взять напрокат какой-нибудь боевик или подрочить в ванне, потому что звонить Хелен все-таки было незачем, он просто посидит здесь, в кресле, из уважения к тяготам и впечатлениям бесконечного дня.
О чем именно он скорбел? Нет, не о кончине матери – ее смерть принесла облегчение. И не о ее жизни, ведь он оплакал ее муки и разочарования много лет назад, когда у нее появились первые признаки деменции. Не сожалел он и о своих отношениях с ней – они, несомненно, оказали влияние на его характер, но не были в строгом смысле межличностными. Сегодняшнее бремя больше походило на младенчество, на нечто более глубокое и беспомощное, чем его убийственные отношения с отцом. Несмотря на отца с его вспышками гнева и скальпелями, несмотря на мать с ее изнурительными страданиями и джином, эти переживания, которые невозможно было назвать нарративом или отношениями, существовали как некое глубинное средоточие невнятности. Человек, который всю жизнь отгораживался словами от любых мыслей и ощущений, с невероятным потрясением обнаружил, что умудрился не заметить нечто столь огромное и важное. Может быть, именно это средоточие невнятности и роднило его с матерью, только у нее оно усугублялось болезнью, а в его случае было глубоко упрятано до тех пор, пока он не узнал о ее смерти. Он словно бы в кромешной тьме незнакомой комнаты наткнулся на какой-то объект, которого не запомнил, прежде чем выключили свет. Это переживание нельзя было назвать скорбью. Оно пугало, но в то же время волновало его. В этом послеродительском мире он мог бы осознать принудительное формирование своего характера как единичный факт, не углубляясь в его генеалогию, не в силу искаженной исторической перспективы, но потому, что он ее отверг. Возможно, кто-то способен достичь примирения подобного рода до смерти родителей, но родители были для него такими непреодолимыми барьерами, что, лишь устранив их в буквальном смысле слова, он смог вообразить свой характер как некую транспарентную среду, к чему всю жизнь и стремился.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Эдвард Сент-Обин Патрик Мелроуз. Книга 2 [Молоко матери. Подводя итог] обложка книги](/books/421064/edvard-sent-cover.webp)


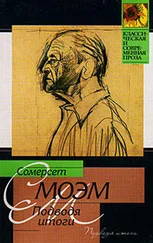


![Эдвард Сент-Обин - Патрик Мелроуз. Книга 1 [сборник]](/books/423229/edvard-sent-obin-patrik-melrouz-kniga-1-sbornik-thumb.webp)
![Эдвард Сент-Обин - Двойной контроль [litres]](/books/431497/edvard-sent-obin-dvojnoj-kontrol-litres-thumb.webp)