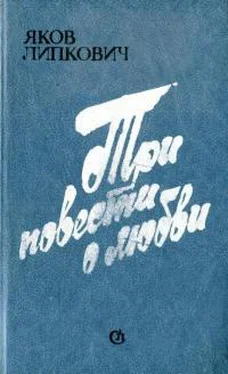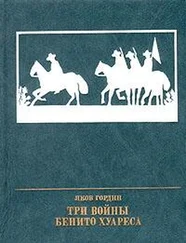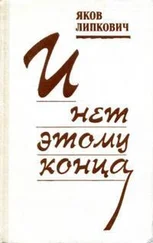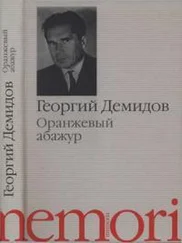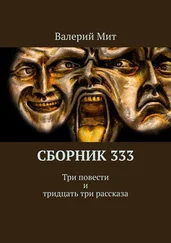«Ее — тоже», — всякий раз напоминала мама, показывая глазами на соседку. Хотя дела у той были намного лучше — жизнь ее находилась уже вне опасности, она не меньше мамы нуждалась в уходе. Не задев важнейшие жизненные центры, перенесенный инсульт все же не прошел для нее бесследно: она временами заговаривалась, страдала от огромных, плохо заживающих пролежней. У нее было четверо сыновей, столько же невесток, шестеро внуков, две сестры, два брата, но за все время ее навестила только одна старая подруга, с которой она проработала на «Скороходе» сорок лет. Правда, однажды пришли два сына, но так как они были сильно навеселе, то их не пустили, и они, посокрушавшись немного, побрели к ближайшему пивному ларьку добирать недостающие градусы. Санитарки же заходили в палату редко — чтобы протереть мокрой тряпкой пол перед приходом завотделением, принести скудную больничную пищу, — и Ипатов, иногда по собственной инициативе, а чаще по маминой подсказке, переворачивал соседку с одного бока на другой, менял пеленки, подкладывал и выносил судно. В минуты просветления та по-старушечьи причитала, жалуясь на свою долю, и обещала Ипатову связать шерстяные носки, которым не будет износу.
И все-таки, как ей ни было плохо, она шла на поправку, а маме, которая ни на что не жаловалась, с каждым часом становилось хуже. Обеспокоенные врачи все чаще и чаще посещали ее, но уколы, которые они назначали, приносили лишь короткое облегчение. Последней — уже к концу рабочего дня — пришла профессор. Она взяла мамино запястье и долго — ровно минуту — считала пульс. Ее неулыбчивое лицо по-прежнему не выражало никаких чувств. Постояв еще немного у маминой постели, она кивком головы позвала Ипатова в коридор. И он, уже зная, что ему скажут, пошатываясь от горя и усталости, обреченно пошел за ней следом. «Как я вам уже говорила, мы не боги», — заметила Сухорукова. «Когда это случится?» — спросил Ипатов. «Думаю, к утру, — ответила она. — Примите что-нибудь успокаивающее. Скажите дежурной сестре, она вам даст. Увы, все мы смертны», — бесстрастно добавила она и направилась в раздевалку…
Ипатов вернулся в бокс и присел на мамину кровать. Мама прошептала с закрытыми глазами: «Я что, умру?» — «Ну что ты, мамуль, что ты? — сдерживая рыдания, ответил Ипатов. — Врачи говорят, что с сегодняшнего дня ты начнешь поправляться». Ее губы дрогнули в недоверчивой улыбке. «Мамуль, ты слышишь меня?» Она едва заметно кивнула головой. «Ты проживешь сто лет!» — «Так много? — словно издалека отозвалась она. — Если бы ты знал, как я устала…»
Может быть, она и не говорила этого: слова, едва рождаясь, угасали тут же на губах. Но в одном он не сомневался, что, пока она была в сознании, ее не покидали предчувствие смерти и усталость, копившаяся, по-видимому, годами…
К вечеру мама уже ни на что не реагировала. И дышала она как бы нехотя — редко и поверхностно. Щеки ее порозовели, морщины разгладились. И произошло чудо преображения: такой молодой и красивой Ипатов видел маму на каких-то старых, еще довоенных фотокарточках…
Дышать ей становилось все труднее и труднее, и он без конца бегал за кислородными подушками.
А под утро, как и предсказывала многоопытная профессор Сухорукова, мама сделала последний глубокий вдох и уже навсегда затихла…
Ипатов вышел в коридор и там, прислонившись к оконному косяку, тихо, чтобы никто не слышал, разревелся.
Через час маму отвезли в морг, который оказался совсем рядом, в подвале соседней клиники. Там она лежала два дня, пока Ипатов носился по городу, оформляя необходимые бумаги и договариваясь о похоронах. Когда он забежал в морг, чтобы передать мамину одежду — ее лучшее выходное платье, ее лучшие чулки и еще кое-какие мелочи, к нему подошел санитар с пушистыми баками на румяном и полном лице и с опечаленным видом сообщил, что покойница сильно подпортилась и с ней надо что-то делать. «Короче говоря, сколько?» — сдерживая ярость, спросил Ипатов. «Четвертной. И еще десятку для санитарок», — радуясь понятливости клиента, ответил тот. С неприкрытой брезгливостью Ипатов протянул ему деньги…
В день ее похорон, когда все родные и близкие собрались у морга, чтобы оттуда ехать в крематорий, Ипатов неожиданно заметил, что у мамы рассечены обе губы. И вдруг его осенила страшная догадка: неужели этот, с баками, вырвал или выбил у мамы ее единственный золотой зуб, который она когда-то, смеясь, называла «мое золото»? Но проверить, так ли это, он, после мучительных колебаний, отказался: слишком дорогой ценой досталась бы истина — он бы не удержался и тут же прибил этого подонка, и похороны омрачились бы дикой сценой. Стоя у открытого гроба, Ипатов старался не смотреть на рассеченное место, и все же взгляд то и дело возвращался к тщательно припудренному, уже совсем обескровленному глубокому шраму…
Читать дальше