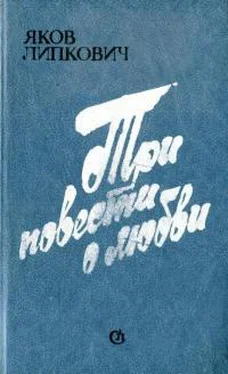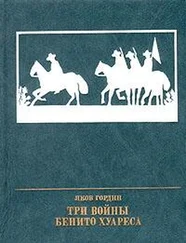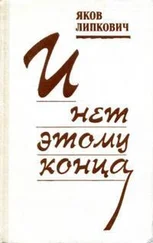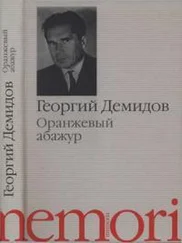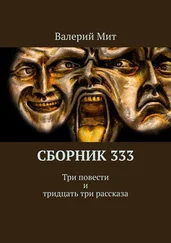Я только собрался броситься ей на выручку со спасительной цитатой о природе германского фашизма, как она сама неплохо постояла за себя.
— Вы, я вижу, товарищ гвардии капитан, — заявила она, — принимаете меня за абсолютную дурочку. Вы что хотели бы услышать от меня? Что Геринг лучше Гитлера, а Геббельс лучше Геринга? Но среди немцев, я уверена, есть немало деятелей, которым, так же как и нам, не терпится скорее покончить с фашизмом.
— Вот это — верная мысль, — опять поднял палец Бахарев. — Еще Сталин, товарищ Сталин, сказал: «Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается…» — И вдруг неожиданно спросил Таню: — Вы член партии?
— Нет. Я еще комсомолка.
— Пора — как вы считаете? — подумать и о вступлении в партию?
— Мне уже предлагали.
— Ну и что же?
— Собираюсь с мыслями…
Ответила бы просто «Собираюсь…» А то — «…с мыслями…».
Но Бахарев, очевидно, этого не заметил и опять заговорил о своем карбункуле, который, как оказалось, не первый в его жизни. Раз в два-три года под мышкой, то справа, то слева, у него вырастало «сучье вымя».
Потом он вспомнил свою бывшую жену, которая тоже была медиком, судебно-медицинским экспертом, и сошлась с каким-то следователем из Москвы, когда Бахарев по заданию райкома партии поднимал слабые колхозы. Сейчас она работала чуть ли не в союзной прокуратуре и даже защитила кандидатскую диссертацию.
После того как разговор перешел с Ивана Грозного на обычные житейские темы, он потерял остроту и медленно и скучно угасал…
Мы с Таней томились, но Бахарев, похоже, не собирался уходить. Ему было хорошо, интересно с нами. То есть не с нами, если быть точным, а с Таней, которая теперь на все его вопросы отвечала односложно — «да», «нет». Правда, отвечала с улыбкой — добродушно-уклончивой, сдержанно-учтивой, необидной.
Иногда мы с Таней украдкой жалобно переглядывались: долго ли он еще будет сидеть? Неужели до него не доходит, что является третьим лишним? Даже если он считает, что между нами ничего нет, должен же он наконец понять, что Таня приехала ко мне, а не к нему. Мало ли о чем нам хотелось бы поговорить наедине? Раз, по существующей версии, мы с ней старые фронтовые друзья, то у нас могут быть какие-то общие воспоминания, свои разговоры, свои тайны. Будь он трижды замполит, но и ему знать все не обязательно. Нет такой установки. Прежде всего, он должен поднимать боевой и моральный дух личного состава, заниматься идейно-воспитательной работой среди разведчиков. Даже спор Бахарева с Таней об Иване Грозном я принял как должное. В конце концов, это входило в его обязанности — наставлять тех, кто ошибается, на правильный путь.
А вот сидеть и травить баланду было, как говорится, уже из другой оперы. Просто ему хотелось, я понимал, пообщаться с красивой, умной девушкой — не частая возможность для батальонного замполита. Только при чем мы?
Я тяжело вздохнул и спросил Таню:
— Слушай, а не затопить ли нам печку?
Бахарев с удивлением посмотрел на меня: топить печку, когда уже отцвели яблони и окна распахнуты настежь? Затем он перевел вопрошающий взгляд на Таню, чтобы, надо думать, свериться впечатлениями от моего сумасбродного предложения.
Таня плутовато улыбнулась. Уж она-то знала, что я имел в виду.
Как-то поздней осенью у нас вот так же засиделся начбой. Размягченный Таниным очарованием, он принес откуда-то гитару и долго, очень долго пел старинные русские романсы. У него был приятный, с хрипотцой, голос. В другое время, возможно, мы бы слушали его и слушали. Но тогда мы не чаяли, как от него избавиться. До окончания Таниной увольнительной оставалось каких-нибудь жалких пять часов. И это без учета дороги — сорока или пятидесяти километров. Причем километров не простых (сел да поехал по накатанному шоссе на своей машине), а уводящих куда-то в непроглядную, тревожную фронтовую ночь, где на каждом шагу подстерегали опасности, где часами можно провести в ожидании попутки и в конечном счете, отчаявшись, пойти пешком, где, не успев оглянуться, рискуешь оказаться в руках немецких разведчиков, которые временами просачивались в наши тылы.
Так что нам было не до старинных романсов под гитару, и мы с Таней, вздыхая, тоскливо поглядывали на часы.
В хате было тепло, весело потрескивал в печурке хворост, который я время от времени подбрасывал в ненасытную топку.
И когда мы уже смирились с тем, что наше дело дрянь, меня вдруг озарила простая и гениальная мысль. Я встал и незаметно для начбоя задвинул печную заслонку. Вскоре вся хата наполнилась дымом. Нас одолел сильный кашель, обильно полились из глаз слезы. Первым не выдержал ничего не подозревавший начбой. Как только он, подхватив гитару с бантиком, скрылся за дверью, я выдвинул заслонку, и дым устремился в трубу. Мы с Таней покатывались со смеху. Потом я широко распахнул дверь и окончательно проветрил помещение. Так мы остались вдвоем…
Читать дальше