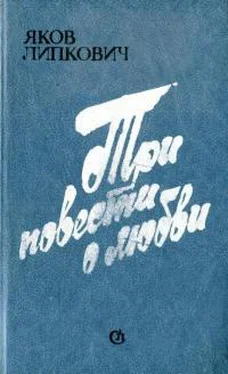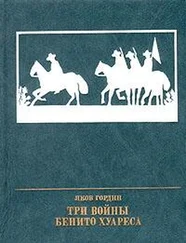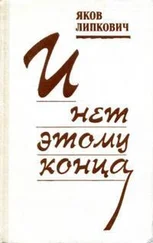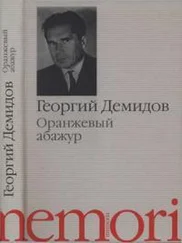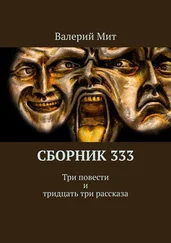— Ганна! — задрав голову, крикнул я в сторону сеновала.
Но по-прежнему стояла тишина, нарушаемая лишь неторопливым похрупыванием сена, неуклюжим переступанием коровьих ног и сладким причмокиванием теленка.
— Ганна! — позвал я еще раз и по приставной лесенке полез наверх.
Защекотало в носу от многолетней пыли, поднимавшейся с каждым моим движением. Я громко чихнул и принялся за планомерные поиски. Я уже не сомневался, что Ганны на сеновале нет — будь она здесь, она бы непременно отозвалась на мой чих непроизвольным смешком. И все-таки, пока я не облазил вдоль и поперек весь чердак, я не терял надежды. Одновременно в душе моей нарастала злость на этого чертенка, на розыск которого я вынужден был тратить драгоценные минуты, отпущенные судьбой на свидание с Таней. И в самом деле, какого лешего я связался с этими дурацкими поисками!
Но отступать было поздно, и я, чертыхаясь, перешел по грязи из первого хлева во второй, где меня дружным визгом встретили поросята. По-видимому, они решили, что я принес им корм. Если бы не перегородка, отделявшая их от меня, я бы, наверно, вынужден был спасаться бегством.
— Ганна! Слезай! — заорал я. — Хватит валять дурака!
Но девочки или здесь не было, или она решила отмолчаться: дескать, покричу, покричу и отстану. Если так, то она плохо знала меня.
По широкой лестнице я взобрался наверх, и передо мной, растерянным и обалдевшим, предстала чудовищная барахолка. Чего только не натаскали сюда припасливые хозяева. Чтобы пройти, я должен был откатить детскую коляску, с верхом нагруженную всевозможным домашним скарбом от самовара до ночной посудины с незабудками на эмали. Пробираясь к дальним затемненным уголкам чердака, где могла спрятаться Ганна, я с немалыми ухищрениями преодолевал одно препятствие за другим: широчайшую кровать, на которой неизвестно кто и когда спал, горку кресел, в которых неизвестно кто и когда посиживал, старинное трюмо, в которое неизвестно кто и когда гляделся. Ждали своего часа, чтобы послужить новым хозяевам, эмалированная ванна, круглая вешалка с загнутыми рожками, столик на кривых ножках. Если бы кто-нибудь надумал составить опись всего, что здесь находится, потребовалось бы немало времени. Конечно, при желании можно было набрать бесхозного имущества еще больше — сколько кругом стояло домов, навсегда покинутых их жильцами. Обезлюдели города, местечки, когда-то густо заселенные польским, еврейским, украинским населением. Заходи в любой дом, бери все, что душе угодно!
Так бы, наверно, поступил и Яков Лукич из «Поднятой целины», по которой я когда-то писал сочинение за десятый класс и, естественно, не хуже других разбирался в кулацкой психологии. Но в то же время я хорошо помнил, что сын (в данном случае дочь) за отца (или мать) не ответчик (не ответчица), и в нервном напряжении, спотыкаясь и бранясь на каждом шагу, продолжал искать Ганну. Я обшарил весь чердак и, перепачканный с головы до ног паутиной и прочей дрянью, спустился к поросятам, снова метнувшимся к перегородке.
Оставалась конюшня. Но если я и там не обнаружу Ганну, то на этом кончаю поиски. Мало ли куда она могла удрать? Село большое, в каждой хате у нее, наверно, есть подружки. Делать мне больше нечего, как искать ее!
Первое, что я встретил, когда вошел в конюшню, был теплый лошадиный взгляд. Из-под длинной челки на меня глядели умные карие глаза огромного немецкого тяжеловоза. Не трудно было догадаться, какими судьбами он оказался здесь. Сколько их, брошенных своими хозяевами во время нашего весеннего наступления, одичавших, истосковавшихся по человеческой заботе, бродило по полям, лесам и лугам на месте бывших сражений. Но пока наши трофейные команды только прикидывали, как лучше организовать сбор этих ни в чем не повинных, безотказных трудяг, расторопные крестьяне в день-два разобрали их.
Поначалу хозяин сильно опасался, что битюга отберут у него, — он понимал, что тот как-никак был трофейным военным имуществом Красной Армии и принадлежал только ей и никому больше. Но шли дни, недели, и никто не предъявлял права на Гнедка, как, не затрудняя себя выбором прозвища, впрямую, по масти назвали они коня.
Гнедко и в самом деле был спокойным, добродушным и премилым существом. Широкогрудый, коротконогий, с густыми щетками на ногах, с такой же густой гривой на большой тяжелой голове, он чуть ли не на второй день стал отзываться на свое новое имя. И все его недоброе прошлое, когда он послушно работал на рейх, навсегда исчезло вместе с немецкой речью, с нескончаемыми переходами по разбитым российским дорогам, с запахами тола и пороха, неотступно преследовавшими битюга все эти годы.
Читать дальше