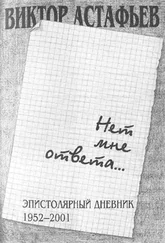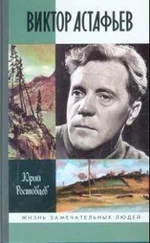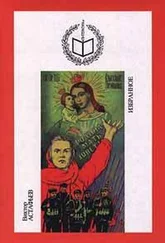По скользкому коридору, с боков которого, словно на бруствере окопа, нагребен был навоз, Сошнин прошел в кормовой цех, отпер закрытых там, насмерть перепуганных женщин. Они завыли в голос и, обгоняя друг дружку, бросились из телятника в противоположную, приоткрытую дверь, возле которой на стоге свежепахнущего сена, утром привезенного на березовых волокушах с лесной деляны, безмятежно спал Венька Фомин.
Сошнин стянул его с сена, грубо потряс за отвороты телогрейки. Венька Фомин долго на него пялился, моргая, утирал рот рукой, не понимая, где он, что с ним.
– Ты ково?
– Я чево. Вот ты ково?
– Я тя спрашиваю: ты ково?
– Пойдем за ворота, там женщины тебе объяснят, ково и чево.
– Турист, пала! – взревел Фомин Венька и выхватил из сена вилы с ломаным черенком. Вилы древние, ржавые, о двух рожках, толсто обляпанных навозом, и среди них рыжие пеньки еще двух обкрошенных, словно выболевших стариковских зубьев.
«Ох, уж эта обезмужичевшая деревня! Все в ней не живет, а доживает…»
– Запорю, пала! – Венька пошел на Сошнина, держа вилы наперевес, словно пехотинец с винтовкой в бою.
– Брось вилы, мерзавец! – Сошнин двинулся навстречу Веньке Фомину, чем весьма его озадачил.
– Не подходи, пала, запорю! Не подходи! – заполошно визжал Венька Фомин, пятясь к задним полуоткрытым воротами телятника, чтоб, бросив вилы, ушмыгнуть в притвор, скрыться в родных полях и перелесках.
Сошнин отсек злодею путь к отступлению, прижимая его в угол. Венька Фомин был телом и лицом испитой, в ранних глубоких морщинах, подглазья – что голые мышата с лапками, пена хинным порошком насохла в углах растрескавшихся губ. Больной, в общем-то, уже пропащий и жалкий человек. Но пакостный, злопакостный, и от него можно ждать чего угодно.
– Брось вилы! – рявкнул Сошнин и подпрыгнул к Веньке Фомину, держа руку наперехват.
Венька Фомин, прижавшись спиной к стене, поднял вилы, как бы загородившись ими. И тут бы свалил его подсечкой Сошнин, отнял бы вилы, дал по шее разок за всех обиженных и угнетенных и повел бы в Починок, на автобус, да возле ворот нарывом наплыла навозная жижа, припорошенная сенной трухой. Привыкший к твердой, опористой обуви – яловым сапогам, к двум твердым, пружинистым ногам, Сошнин в узконосых ботинках поскользнулся хромой ногой, неловко упал на руку – и сработала, сработала подлая натура лагерника – бить лежачего. Венька Фомин коротко ткнул вилами. Сошнин мгновенно ушел от удара в грудь, но вилы все же достали его, и ржавый рожок как бы нехотя, с хрустом вошел в живое тело, в плечо, под сустав. Венька Фомин, по-шакальи оскалившись, надавил на вилы, приколол Сошнина к коричневой гнилой плахе.
Рывком вскочив, Сошнин цепко схватился за обломыш черенка вил, пытаясь их выдернуть. Боль пронзила его, овязала.
– Говорил, не лезь, пала! Говорил, не лезь… – вжимался в угол вконец перепуганный Венька Фомин, вытирая разом вспотевшее лицо и губы запястьем руки. Высохшая пена крошилась, опадала перхотью с треснувших губ, застревала в реденькой, беспородной щетине Веньки Фомина.
– Вытащи вилы, гад! – с глухим отчаянием закричал Сошнин.
Дальше все свершалось в заторможенном удалении. Венька Фомин несколькими малосильными рывками, молниями рассекавшими голову Сошнина, выдернул вилы, и Леонид увидел на ржавом зубце сгустки крови, нечистые сгустки на нечистом, словно пластилином облепленном зубце, пошатнулся, зажал рукой брызнувшую кровь, уперся лбом в стену, пахнущую мочой и тошнотворным силосом. Малость отдышавшись, он достал носовой платок, сунул его под водолазку, натянул на платок лямку майки. Мгновенно пропитавшийся кровью платок скользко понесло с плеча на живот.
– Давай платок! – не глядя, вытянул Сошнин руку. Венька Фомин сунул ему затасканный, серый комочек. – Что ж ты наделал, скотина! – простонал Сошнин, бросая грязную тряпицу в плаксиво-угодливую морду Веньки Фомина, и кинулся на свет, зажимая рану.
Бабы-скотницы увидели уже далеко за телятником бегущих друг за другом по грязи Сошнина и Веньку Фомина, подумали, что бандюга гонится за человеком, чтобы его зарезать, завыли в голос. Надо было вернуться к телятнику, надеть пиджак, пальто, надо было бежать в Полёвку, просить Маркела Тихоновича запрячь лошадь. Но лошадь может оказаться в лесу или на силосных ямах, а то и на жнивье пасется, начнут всем полевским народом причитать, ловить, запрягать, потеряется дуга или хомут, у телеги вывалится ступица, колесо спадет среди грязи с оси, завязнут на выезде или средь проселка. У Маркела Тихоновича к «груде подопрет», сама Чащиха, как всегда, выступать примется, отыскивая врагов, Светку перепугают и, чего доброго, с собой возьмут…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Виктор Астафьев Печальный детектив [litres] обложка книги](/books/420903/viktor-astafev-pechalnyj-detektiv-litres-cover.webp)