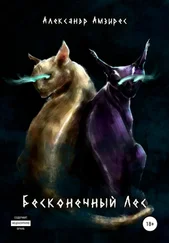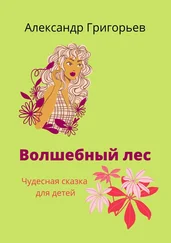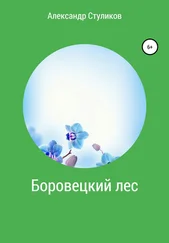А потом он вернулся в Переделкино, достал из тумбочки пистолет и застрелился. Рядом с собой на столике у кровати Фадеев поставил портрет Сталина.
Лес лесом, но подлинными достопримечательностями внуковских окрестностей были все же дачи. Абрикосовская, как я уже говорил, появилась у деревни Изварино еще до революции. Советская творческая интеллигенция стала заселять эти места в тридцатые годы. Вероятно, этот процесс происходил одновременно во Внукове и Переделкине, но о переделкинских небожителях страна знала гораздо больше, чем о внуковских. Объясняется это очень просто: там жили писатели, публика тщеславная и плодовитая. Денно и нощно они описывали свои дачные дрязги и склоки, а обыватели усердно распространяли их. Взять хотя бы историю о Чуковском и Катаеве.
Киношная группа приехала в Переделкино снимать дедушку Корнея. Все понимали, что запись на природе выгодно отличается от съемки в квартире. Корней Иванович рассказал об усатом Тараканище, Мухе-цокотухе, бегемоте, застрявшем в болоте. Киношники закончили съемку, свернули аппаратуру и вышли на улицу.
— Хорошо у них в Переделкине! — сказал режиссер, потягиваясь. — Птички поют. Пиши себе и ни о чем не думай.
Он вдруг увидел пионерку, которая шла в их сторону по улице. Это была замечательная девочка с белым бантом на голове, алым галстуком на груди и красными сандалиями на крепких ножках.
— Давайте запишем девочку, — распорядился он. — Пусть скажет, как она любит дедушку Корнея.
Оператор включил камеру.
— Ты знаешь, кто такой Корней Чуковский? — спросил режиссер, протягивая к девочке микрофон.
— Знаю! — громко ответила пионерка, глядя на него ясными глазами. — Это очень плохой писатель!
Микрофон выпал из рук режиссера. Девочка проследовала по улице дальше. Режиссер не поленился и еще раз сходил к Чуковскому.
— Это внучка Катаева... — потупил глаза классик.
В этом эпизоде отразилась вся жизнь переделкинских писателей. Любили они друг друга истово.
Иное дело внуковские дачи. Писателей среди их насельников было ничтожное меньшинство, да и жили они на выселках, за оврагом. А перед оврагом, на лучших участках, проживала музыкально-актерская элита. Александров и Орлова, Утесов, Соловьев-Седой, Образцов, Лебедев-Кумач, Лепешинская, Быстрицкая...
Жизнь на этих дачах протекала насыщенная, но не столь явленная напоказ, как в Переделкине. В воспоминаниях племянницы Любови Орловой я прочитал, что внуковские дачники недолюбливали переделкинских. На посиделках, что регулярно устраивали Александров и Орлова, к примеру, распевали песню, в которой были слова: "Но известно всем давно: Переделкино хваленое перед Внуковом г...о!"
"Ага, — думал я, читая эти строки, — наши тоже были не лыком шиты. Придет время — и мы напишем".
А время в середине восьмидесятых никуда не спешило. Где-то вдали погромыхивали раскаты третьей мировой войны, но простых граждан это не пугало. Им, гражданам, еще не было что терять. Советские люди поголовно были атеисты, однако отчего-то верили, что за пазухой у них припрятаны две, а то и три запасные жизни. В голове варилась каша из смеси безверия и православия, над которыми главенствовали догматы буддизма. Впрочем, граждане об этом не подозревали и готовились летом съездить куда-нибудь в Крым.
— Коктебель очень хорошее место, — говорил я жене.
— В Пицунде условия лучше, — отвечала Алена.
— А климат?
Климат был лучше в Коктебеле. Перед нами вставала почти неразрешимая задача.
— Куда едут Файзиловы? — спросил я после паузы.
— В Коктебель.
Вопрос разрешился.
— Файзилов! — донесся с улицы зычный голос Люды Иванченко.
Стук пишущей машинки прекратился, на балкон вышел писатель.
— Сандрик сидит в песочнице и ест песок! — доложила Люда.
— Сандрик, не ешь песочек! — не менее зычно распорядился Файзилов и ушел стучать на машинке дальше.
— Ну и что делать? — посмотрела на нас Люда.
— Скажи Кате, чтоб она не позволяла ему есть песок, — сказал я.
Сандрик и Катя были ровесники, но, кто из них главнее, было непонятно.
— А где Таня? — спросила Алена.
— Уехала на рынок, — фыркнула Люда.
Сегодня была суббота, когда писательские жены отправлялись на рафике на рынок. Люда и Алена, как я понял, эту поездку проспали.
— Айда по грибы, — предложил я. — Жора говорит, белые пошли.
Мы с Георгиевым соревновались, кто больше принесет белых. Пока счет был семь — пять в его пользу. Однако в ту осень всех победил художник Валера, сожитель Топорковой из первого коттеджа. Однажды он прибежал из леса с выпученными глазами. В руках он держал рубашку, завязанную наподобие торбы, и в ней было десятка три боровиков.
Читать дальше




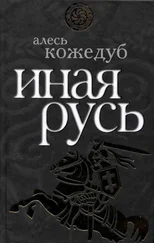
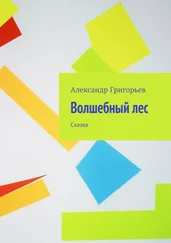
![Александр Гоноровский - Собачий лес [litres]](/books/407134/aleksandr-gonorovskij-sobachij-les-litres-thumb.webp)