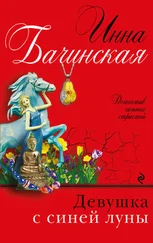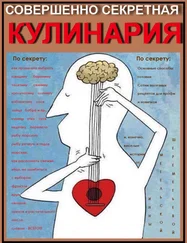Меня стрижет завпоэзией, а я прикусываю язык. От удушающего желания курить я чуть было не выболтала то, что знаю от самого Светлова: сперва у него начались разнообразные женщины, а потом уж и Радам одного лауреата, итальянца Понтекорву себе нашла. Светлов хоть и острит в мой адрес, почему-то печально откровенничает. Не только насчет разнообразных встречных-поперечных баб из окололитературной и околосценической среды. Такое можно и вперемежку с остротами выбалтывать. Он и о серьезном, судьбоопределившем поведал, и не спьяну, а на трезвый язык. Пить начал, когда его, бывшего молодого троцкиста, посадили и продержали несколько дней в чека. Светлов рассказал, что он такой страшный страх перенес, что после этого только дурак может жить в полной трезвости. И только дурак может без конца писать стихи. Получается, что я — и есть тот дурак, без конца пишущий стихи.
Я, хвастливая душа почти нараспашку, я, обожающая подтверждать чужие, доверенные мне тайны собственными, в данном случае промолчала. Слушая Светлова сочувственно, но рассеяно, не запоминая деталей, я молчала. Я молчу о том, как я, незамужняя девушка, в подвале серого дома бакинского чека просидела трое суток в цинковой ванне с ледяной водой. Время от времени теряя сознание, утопала, и меня за мой первый и последний перманент вытаскивали, били, чтоб в себя пришла, и снова — в ванну. А время от времени, подгоняя резиновым прутом, голышом вталкивали в соседнюю комнату на допрос. Там мне в глаза пускали такой пронзительный свет, что не видела лица допрашивающего, лишь по акценту, как во сне, догадывалась — армянин. На самом-то деле речь имеет только два ярко выраженных акцента, у одних акцент наступательный, у других — оборонительный. У меня — оборонительный, но упрямо-твердый, хоть лепечу:
— Простите меня, я не вру, я не помню, чтобы Гена и Рафа в книжном пассаже увидев, извините, портрет Сталина, говорили те слова, которые, прошу прощения, вы предъявляете: «Куда ни плюнь — эта морда».
— Заткнись, карабахская ишачка, я тебе ничего не говорил, я тебе признанье твоей подруги передал, твоя Копейкис в Тбилиси рассказала все и про вонючую антисоветскую смесь. Призналась, что жених ее, Гена Альтшуллер, жидовский изобретенец, порошок изобрел: в любую лужу брось во время парада — растворится, и вонь пойдет, и завоняет на площади Ленина правительственную трибуну и колонны трудящихся. Подтверди формулу — отпустим. Кончай врать и прощения просить! Вчера за прощение тебе в один глаз всунули, а сейчас — и во второй получишь!
Допросчик подставил мне под левый глаз бумажку со знакомой формулой, а я, поняв, отчего пронзительный свет мне кажется не белым, а розовым, поняв, что подбит правый, даже сообразив, что в правом — разошлись когда-то сшитые мышцы, чтобы не косила, успокоилась. Все объяснимое всегда успокаивает. Успокоилась и залепетала, что, пусть извинят, но пусть проверят, — по химии мне, совестно признаться, с трудом тройку натягивали, и даже если бы я какую формулу и видела, уж, простите, пожалуйста, не поняла б. Простите великодушно, такой характер: чего не пойму, того не запомню. Этой формулы не знаю, сделайте одолжение, немного свет отверните и не мучайтесь со мной.
— Это я мучаюсь, говно ишачье? В ванну ее!
И опять в ванну резиновым кнутом погнали, а я соображала, что больше не вынесу, Люська им все подтвердила, так чего мне и впрямь, как ишачке, упрямиться? Не знаю, сознательно или подсознательно, но прибегла я не к речевой, а к физической оборонительности: брякнулась на пол и, уже не прикрывая одной рукой грудь, а другой — низ, начала биться, как эпилептик, кажется, у Достоевского прочла, как надо. Помогло. Отпустили, приказав, чтоб никому — ни слова, иначе убьют окончательно. Еще приказали на всю жизнь запомнить легенду: проводив Копейкис в Тбилиси, решила в море искупаться. Села в электричку на Сабунчинском вокзале и поехала за город, в Бузовны. Все, мол, знают и поверят, что такая, как я, способна и в декабре в воду полезть. Полезла в холодное море, простыла и забредила, и провалялась трое суток в винограднике. А стала выбираться, глаз о лозу поранила, еле выбралась. Я действительно еле выбиралась сразу из воспаления легких и почек, из ревмокардита. Но выбралась, слава Богу, пожертвовав всего одним глазом и небольшим пороком сердца. А вполне могла и ослепнуть, да и помереть.
А их легенде, тоже действительно, все поверили. Даже моя закадычная подруга Копейкис, которую, я, как и все в школе, называла по фамилии, вслед которой я ободряюще махала на перроне и улыбалась. И вот такую, махающую и улыбающуюся, меня и взяли под белы рученьки и — в серый дом. Когда Копейкис пришла ко мне, вернувшись из Тбилиси, как всегда очень красивая, с подведенным пухлым ртом, и своими ясными, зелеными глазами вопросительно посмотрела на меня, всю распухшую, я ей выпалила уже накатанную перед родными и соседями легенду. Папа в предпоследний раз лежал тогда в госпитале, он бы, не исключаю, заподозрил неладное.
Читать дальше