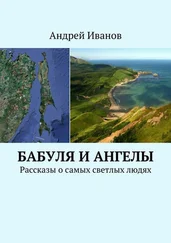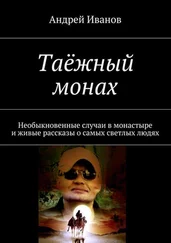Ты боялась гаргулий собора Парижской Богоматери, но гаргульи Святого Северина тебя не пугали. Когда мы огибали стены церкви и выходили к саду, отец говорил, что его наполняет дух Парижа. Я понял город только здесь, в этом саду, когда обоих вас не стало. Я плакал над древними надгробьями, птицы щебетали, город кричал, я задыхался от горя, ощущая себя окончательно покинутым, и только серебряный крестик… маленький серебряный крестик на ниточке… я вынимал его из бархатной шкатулки, в которой хранилось папино перо, потерянное… Ты много раз брала меня с собой в церковь, я смотрел, как ты ставишь свечку, молишься перед образами; если б ты меня научила, мне было бы легче перенести, я бы помолился, что ли. Хорошо тем, кто верит, – у них есть Бог, которому можно что-то шептать наедине, хотя бы упреки… В саду церкви Святого Северина я понял, насколько я слаб и беспомощен перед плитами одиночества. Я – смешной гордец, позер, и все, на что я способен, – это стоять в витрине Полишинелем, прохаживаться с пылесосом или раздавать детям коктейли, рекламировать одежду, фотографироваться у новенькой машины с предложением взять ее в кредит, играть популярные мелодии в кафе и ресторанах. Я прожил мою жизнь на потешенье века. Мои позы жалки, а таланты – мелки. Чего я сто́ю? Что я такое? Марионетка, шут, гистрион. Пасхальный марципановый гном. Глянцевое недоразумение… я ползу по плитам истории, из меня сыплются конфетти, серпантин, мелко нарезанная серебряная бумага, стеклышки, осколки игрушек… мусор времени… стеклянная пыльца… манежная тырса… люди тоскливо за мною сгребают этот сор… Я никому здесь не нужен. Зачем вы меня привезли в этот город? Ради чего я тут? Перед этими плитами… Тогда я думал, что все мое будущее будет ими устлано; я буду по ним ползти, до конца… Надломленный, я смотрел, как мои слезы падают на камни, оставляя прозрачные кляксы… мои слезы… они так неожиданно красиво блестели на солнце… и от этого казались ненастоящими… Неужели ты надеешься растопить камень слезами, смешной мальчик? – шептал ветерок. Неужели ты хочешь повернуть время вспять? – сияло солнце. Мой малыш! – Да, мама, легко и весело тебе глядеть с небес! Покойся с миром.
Вкрадчиво постучала пани Шиманская, принесла лекарство; Альфред послушно выпил рюмку микстуры.
– Опять работаете, пан Альфред. Ложились бы и лежали. Врач сказал, нужен сердцу отдых.
– Да разве это работа, разве ж это работа?..
Рута вздохнула и ушла.
Все-таки пришлось прилечь, полежать. Сегодня давит небо. Накрапывает. Деревья шепчут. Был серый, будто в марлю обернутый, день, и тяжелая свинцовая ночь, а утро… есть в нем что-то новое, сквозь него, как слепой с клюкой, крадется странный стук. В каждую комнату за мной идет старик. Стук и вздох. Глубокий омут в том вздохе. Иду, и он – стук-стук – следом. Молот сильней искусства, сильней философии и морали. Удар – это намерение: сокрушить все, сломать стены, снести памятники, выломать двери, растеребить швы, прервать ритм, остановить сердце, разъять время. Стук. Они сидят на корточках и бьют молотками. Стоят с ломами в руках. Выламывают прутья из кладбищенских оград. Сворачивают столбы и дорожные знаки. Кто-то скалывает камень, вместе с камнем крошится воспоминание. Кусок извести превращается в фарфоровую чашку в чьей-то из давнего прошлого протянутой руке. Удар, крик, вой сирены. Я и не знаю, что это за стук – лома или моего сердца? Осколки жизней, обломки прошлого… Знают ли железные грачи, что по живой плоти стучат? Эти камни, они живее всех живых.
Альфред накрывается с головой. Жмурится. Его влечет видение, звякают дверные колокольчики… И опять: клю-клю по мостовой… Облепив часовни, железные птицы стремятся остановить часовой механизм, выклевать стрелки, обрушить колокола. Щемит сердце. Трещина растет. Время – это длинный рельс, который пилят ночные путевые обходчики в газовых масках. В Париж слетелись монстры, гаргульи ожили, расправили крылья. Манифестация превращается в шествие адских созданий. Идут орангутаны в форме офицеров СС, за ними плетутся узники лагерей, покойники в истлевшей одежде и ошметках саванов поверх дряблой плоти. Клацая кандалами и звякая цепями, тянется поток монстров. Вдоль набережных Сены крадутся шакалы, лисицы, рыси, черти и прочая нечисть. Их сопровождают смердящие тучи зловонных мух, рой ос и пчел. В воде что-то плещется. Гладкие чешуйчатые спины, плавники, зубы… Саламандры выбираются на берег, шлепают по бульвару Дидро, вливаются в сборище на площади Насьон. Становятся единой массой слипшихся тел. Гул голосов, лай, хохот, конское ржание, лязг, взвизгивание пил. Сквозь рев и цоканье копыт прорывается мерзкое пиликанье на скрипке, ей вторит хриплоголосье загульной гармоники и подобострастное треньканье на банджо. Кто-то негромко посмеивается. Мальчик указывает в небо: “Tiens!” [64] Глянь! (фр.)
Освещая себе путь во мраке двумя лучами, плывет дирижабль. Задрав головы, люди следят за его полетом. Тягучее поскрипывание и еще невнятный звук, похожий на орган. Жалостливый женский голос запевает:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу