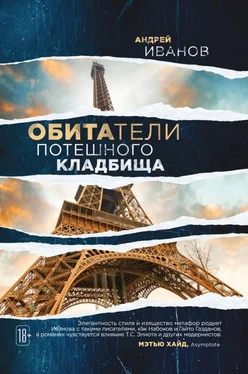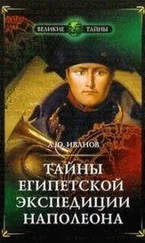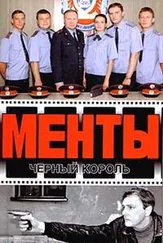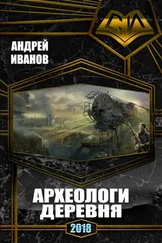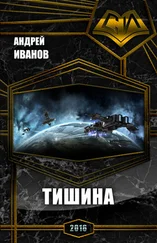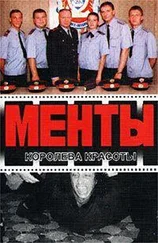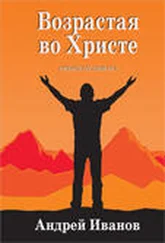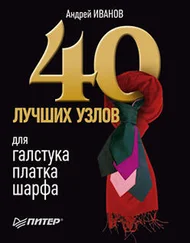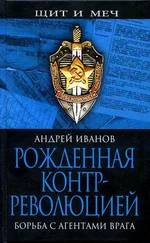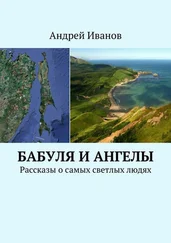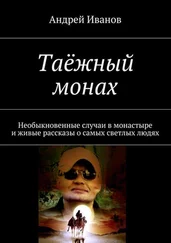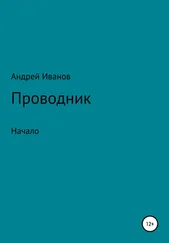Скворечня стояла на холме, ветер и листва шумели, все тут было старым, все потрескивало, особенно по ночам. С раннего детства Александр жил с ощущением присутствия тайных сил: он верил, что они могут говорить с человеком, отзываться на его мысли поскрипыванием лестницы, дверным хлопком, звякнувшей щеколдой. На целых четыре года он об этом забыл, и вот теперь все как будто ожило, заговорило. На оконных рамах замазка отсохла, стекла гуляли, подрагивали. Ветви громко стучали по водосточной трубе, сбитая набок, она кое-как болталась на ржавых ободках и не служила, в дождь много набегало внутрь, и стена обросла плесенью. Александр приладил трубу, выправил водосток, почистил воронки, долго боролся с плесенью. Арсений Поликарпович снабдил необходимым раствором, скребком, кистями и краской, разрешил укоротить ветви. Крушевский повозился с пилой в удовольствие. Обживая Скворечню, он находил общий язык с вещами. Помог и Боголеповым с мансардой, – старик был доволен, устроил небольшую пирушку, позвал гостей. Крушевский за разговором заметил, что в Скворечне чайник ржавый, Теляткин подарил ему новенький.
Одеяло пахло несвежим. Саша стелил его в ноги, а накрывался своим американским пальто. Обсерватория не прогревалась, но с наступлением теплых дней Крушевский обжил и ее; ясными вечерами он пил там чай, курил, думал, дожидаясь звезд. Ему нравилось возиться в хранилище и библиотеке – и никто не жужжал над ухом, не подсовывал ему газету, не вызывал на спор, поляки не зазывали быть переводчиком. Он стыдливо радовался своему одиночеству. Он дал себе два обещания: первое – найти отца (эту задачу он решал потихоньку: ходил в консульство, слал письма в Брюссель, разговаривал с Игумновым и другими), второе – помочь Егору.
Те пути спасения, которые выбирал Глебов, и те места, где он искал их, не нравились Крушевскому; он не хотел сопровождать Егора на черный рынок, заводить беседы с подозрительными типами, приходилось переводить такие вещи, от которых делалось страшно, оказывается, преступление – тоже валюта, и чем страшнее преступление, тем оно дороже, и этой валютой можно купить себе свободу, паспорт, билет на пароход в Америку и т. д. А как жить потом? На это Егор ничего не отвечал. Как только он видел авантюристов, выражение его лица и повадка менялись, глаза Глебова начинали источать холодный безжалостный свет, и Крушевский понимал, что тот правду говорил про свое беспризорное детство, про детские дома и воровские шайки, и с сожалением думал, что для Егора это и была родная среда. Конечно, ему наплевать на то, что я говорю, думал Саша, ему наплевать на то, как он будет жить потом, после того, как совершит преступление, о котором его просят, получит паспорт, улетит в Америку, вот и весь ответ. Обнаружив в Егоре эту холодность и сродство с преступным миром, Крушевский разочаровывался в нем; но в который раз Глебов его поразил: не зная французского, он понимал местных спекулянтов и шулеров лучше Александра, которому криминальный жаргон был внове, Егор читал их ухмылки, позы, манеры и жесты, определяя ранги и даже «профессии»: «А этот скуластый должен быть медвежатником, – шептал он Александру, едва шевеля губами, – глянь какие плечи, руки – настоящий кузнец!.. А тот сухопарый, смотри в оба, мокрушник, точно говорю, мокрушник…»
Вернувшись к ночи после блужданий по трактирам и злачным местам, они разжигали в гараже огонь, на который из своих пещер сползались другие обитатели индустриального гетто. Они садились сгорбившись у открытой печурки, пили чай, слушали отчет Глебова и начинали вялый ночной спор; поругавшись немного, разбередив себя пустыми надеждами, они уходили в свои норы убивать холодную ночь, чтобы утром тащиться в доки. Все знали, что в любой день и этого может не стать. Вернешься, а гараж занят. Вот бы так и случилось, думал Александр; он искал предлог уйти из Сент-Уана, злорадно желал, чтобы все сараи захватили большевики или какие-нибудь торговцы (шли разговоры о том, что тут наметили строительство рыночной площади – жизнь торопилась развернуться); он устал от разрухи, устал бежать в стае; ему надоело смотреть на то, как отупевшие от страха люди ищут на мятой карте землю обетованную – ему хотелось их встряхнуть, рявкнуть: «нет ее, земли обетованной!»; в нем поселилось злое стремление избавиться от братьев по несчастью, он больше не хотел видеть гаражный народ, не хотел возвращаться в Сент-Уан, он устал от их общей мечты; он готов был пить отраву жизни, не жмурясь, в одиночестве, чтобы не видеть, как они, улучив минуту, предаются мечте. Даже Егор был подвержен этому пороку; на его лице появлялась блаженная улыбка, глаза заволакивало, он смотрел на огонь, курил, и по тому, как его сковывали безмолвие и неподвижность, Крушевский понимал: Егор мечтает о чем-то, – и отворачивался. Сам он, всматриваясь в себя, не находил в душе ни домика с огоньком, ни красивой девушки с младенцем на руках, ни коридора в Сорбонне; даже отец, о котором он думал, не был мечтой, – его образ вызывал в груди тупую боль, сосущее чувство утраты; он вспоминал отца с телесным упрямством, напряжением мышц и иступленной клятвой: «Я найду тебя, папа!» – так не мечтают, конечно. Мечта похожа на морфин, ей сопутствуют покалывание мурашек, легкое холодноватое мерцание, наподобие полярного сияния, и тепло; какой-то поэт назвал мечту радугой над сердцем, Крушевский не мог вспомнить имени поэта; он думал, что мечта похожа на гамак: ты покачиваешься, понемногу забываясь, и волны, которые накатывают на длинный песчаный берег Де Панне, отодвигаются, унося от тебя смех матери, голос отца, шуршание осоки, вскоре все звуки исчезают совсем, ты переносишься в мир грез… Раньше он мечтал о путешествиях, девушках, успехе; он собирался учиться в Сорбонне, – это было давно и как будто не с ним. «Сорбонна», – произносил он и всматривался в сердце: там было тихо, оно лежало неподвижно под твердой темной коркой льда. Он стоял возле памятника Монтеню, глядя на вход в Сорбонну, – вот она, твоя мечта!.. вот она!.. ну?.. Долго не мог решиться… Наконец, снял шляпу, вошел, немного сутулясь, так он входил в церкви. Прогуливаясь по коридорам университета, он вспоминал, как покупал книги, учебники, готовился… готовился к этой встрече, и теперь он здесь – и это здание его не волнует, в нем нет ничего общего с теми мечтами, которыми он болел до войны. Вышел в университетский дворик, зашел в часовню Святой Урсулы, посидел в кафе, украдкой поглядывая на студентов, присматриваясь к их одежде, жестам, книгам, он чувствовал себя от них удаленным, будто находился душой где-нибудь в Антарктиде или в бункере, на подводной лодке, он глубоко под водой и подглядывает за ними через перископ. Даже то, как они держат книги, тетради… как сидят… говорят… так мы книги не носили, нет… Он спрашивал себя: сможет ли он так же сидеть, беспечно закинув ногу на ногу, и щебетать? Нет, не сможет, наверное… Он откладывал Сорбонну, он говорил себе, что поступит, обязательно будет учиться, но когда-нибудь потом, а пока он привыкал делать самые обычные вещи: наводил порядок в библиотеке и хранилище , укреплял полки и карнизы, мыл стекла в обсерватории , штопал одежду, купался в реке, гулял босиком, топил печь, смотрел в бинокль на правый берег, молился, перебирал газеты и журналы, читал, раз в сутки обедал у Боголеповых, помогал им по хозяйству, пил чай, делал выписки, записывал своё. Прерывался покурить. Поднимался наверх. Заметив на набережной Клиши группу беженцев, он смотрел на них в бинокль, искал знакомых; беженцы появлялись часто; толкая тележки, они шли с большими тюками на спинах, с детьми на плечах или в колясках, – французские дети смотрели им вслед.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу