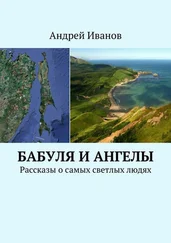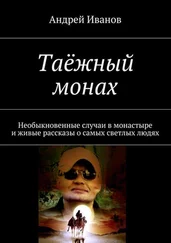– Послушайте!.. Постойте!..
Александр остановился; кто это? К нему приближалась фигура. Это был старик Боголепов. Он был чем-то недоволен; говорил громко, хрипло, сбивчиво… Что он шумит так? Наконец, Александр разобрал: старик сходил в Борегар…
– Там никто вас не знает! И никакого Кострова там не нашлось! Что скажете? Бахвалились?
Лицо Александра побелело и задергалось; он выкатил глаза, губы его дрожали, несколько секунд он стоял, силясь что-то сказать, – старик испугался, пожалел, что накинулся так на него, – наконец, справившись с собой, Александр не своим голосом рявкнул:
– Я видел смерть!.. Зачем мне лгать?..
И на Боголепова уставился, стоит, глаза навыкат, губы белые, а гримасы на лице меняются, кожа дрожит, веки дергаются. Старик замялся.
– Ну да, кхе-кхе, ну да, – покряхтел и залопотал: – Ну, значит, это… недопонимание вышло. Простите! Не сердитесь. Да и часовые тоже мне: форма неглаженая, морды небритые, сырмяжка провисла. А как стояли? Видели бы вы их! Пугало огородное, и то стройнее стоит! Языками чесали – перекати-мать да едреня феня, ни одного живого слова!
– Де-де… де-зер-тиры. С самого начала… осенью… комендантом был Фурнье… майор Викто́р Фурнье, из фифи… при нем был Костров… партизан Костров, зимой Фурнье сделал его комендантом… Теперь власть сменилась, наверное. Поговорите с Усокиным.
– Да, поговорю. Не беспокойтесь так. Не мерзнете вы тут, Александр?
– Нет.
И он снова закрылся в башне, слушал, как гудит печь, как поют птицы, немного писал:
Внутри чешется, будто зарастает рана. Незнакомое чувство. Драгоценный покой, как тепло, отогреваюсь, ни с кем делить его не хочу. Это на меня совсем не похоже. Выскочил на улицу босиком, прошелся по травке и опять заперся. Ночью в реке купался, видел метеор. По небу чиркнули спичкой. Сердце екнуло. Река, птицы, деревья, небо, звезды – все это заменяет мне людей. Оставаться одному, ни с кем не говорить, даже никого не видеть. Несколько дней был совсем один и одиночеством не тяготился.
Спал столько, сколько ему хотелось, иногда, проснувшись от какого-нибудь шума, вскакивал, но, сообразив, что это поезд пролетел, он успокаивался, выходил подышать, скручивал папиросу, курил, глядя на отражения огней в воде, докурив, устраивал себе прогулку по башне. Все легче давалась лестница, и он находил забавным по ней лазить; все понятней казались комнаты: «А в этом есть какая-то логика», – думал он, поднимая люк в полу, спускался вниз и говорил вслух: «А в этом есть своя странная логика». Прохаживался по хранилищу , как врач во время обхода по палате, осматривал кипы книг и журналов, заглядывал в ящики и спрашивал: «Ну-с, как у нас сегодня дела?..» – «Ничего», – шуршали газеты. «Хорошо», – шелестела афиша. «Ну, вот видите…», – усмехался Крушевский и заводил с предметами домашний разговор… Мысль распрямлялась, слова струились вольней. Он поднимался на самый верх, ходил по обсерватории широким капитанским шагом, глядя то в одно окно, то в другое, он громко читал стихи, а потом, утихомирившись, молился; иногда, проснувшись посреди ночи, он задавал сумраку вопрос: «Ну, как вам спится?», – и ему казалось, будто вещи слушали, притаившись, – «Спите?.. Ну, спите-спите», – переворачивался на другой бок и засыпал. В погожие дни осматривал в бинокль окрестности, – вспоминалось, как он любовался деревеньками и долинами Тимистер-Клермона, вспоминал Эрве…
Настоящей войны в его жизни почти не было. Первая смерть случилась внезапно: во время бомбежки пожилой майор Бови умер от сердечного приступа. За этим последовало двенадцать дней судорожной суеты: обстрел, перестрелки, перебежки, обстрел, затаенное ожидание и лихорадочные поиски еды, бинта, медикаментов, боеприпасов. Раненые прибывали, немцы захватывали траншеи, блокгауз глох за блокгаузом, орудия и пулеметы выходили из строя, в казармы влетали гранаты, брызгали струи огня, он перетягивал жгутом ногу рыженького паренька родом из Льежа, которому не было двадцати, и вдруг убежище встряхнуло, как коробок, внутрь ворвался смерч; придя в себя, Саша увидел, как раненые катаются по полу, они были в огне, и парнишка из Льежа, дрыгая ногами, разбрызгивал кровь, он затих, и на этом война для Крушевского кончилась, начался плен: несколько «глухих» дней их держали на ферме неподалеку от форта. Александр ее тоже очень любил рассматривать в бинокль; солдаты туда ходили покупать молоко, сыр, яйца, – теперь там расположился временный немецкий штаб. Допросы ничего не дали, их отконвоировали в Шарнё, снова допрашивали, и снова впустую, по причине сильной контузии: потеря слуха и речи, гул в голове, рвота, тремор, он все еще плохо понимал, что происходит и с кем он разговаривает, что-то писал, руки тряслись, разбираться не стали, всех погнали в Эрве, оттуда в Льеж – пленных стало больше – Вонк – бесконечные дороги разоренной страны – Маастрихт – бесконечная цепь людей – ни валлонцы, ни фламандцы, ни французы, ни русские – слипшиеся комья грязи, они спали на дорогах, жались друг к другу, лакали воду из луж, плакали без стыдливости, с тупой жадностью смотрели на разорванные туши лошадей. Африканцев к африканцам, евреев к евреям, эльзасцев и лотарингцев переобули и направили на фронт, кто-то из них погиб, кто-то угодил в плен к русским, кто-то был убит при попытке к бегству; кто-то угодил в строительные отряды, кто-то вступил в вермахт, кто-то с потоком шел дальше – из шталага в шталаг – от одной стройки к другой, кому-то выпал Кёнигсберг, а кого-то отправили в Циттенгорст.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу