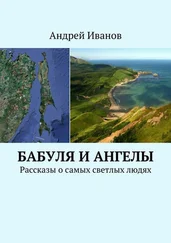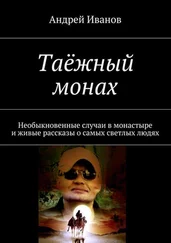В начале 1919-го я встретил Теодора: его, как военного хирурга, направили в Россию вместе с французскими войсками, он провел два месяца в Одессе в борьбе с испанкой и был полностью уверен в том, что ее изобрели большевики, – я слушал его рассказы, и в моем сердце таяла надежда увидеть отца. Из бинтов и марли Теодор сшил себе маску необычной формы (в ней он был похож на medico della peste [30] Врачеватель чумы (ит.) .
). Он сильно изменился и вел себя странно; он писал предупреждающие о серьезности испанской инфлюэнцы стихи, делал плакаты в духе фумистов и клеил их в метро; его арестовали за то, что он отказался снять свою отвратительную маску в публичном месте, он провел в полицейском участке ночь с бродягами и ворами, громко читая стихи, утром его отправили в госпиталь заниматься своим делом. Я тоже сшил себе маску и ходил в ней по городу, нарочно не снимал. После эпидемии, торопясь забыть кошмар, я ходил в лучшие кафе, шатался по бульварам, искал людей. Наше общество раскололось. Мы все стали немного чужими. Этьен вернулся с фронта совсем не в себе. Андре и Теодор завели новых друзей, я их встретил возле Пантеона, их было человек пять или шесть, они стояли в ожидании, когда из мэрии вынесут гроб с телом какого-то политика. Собирался народ, подошел военный оркестр. Теодор, Андре и другие беззлобно посмеивались. Мне было решительно все равно; не знаю, что они высматривали; я слушал их шуточки и чувствовал себя абсолютно чужим; я спросил Теодора, что происходит, он ничего не объяснил, его взгляд хищно рыскал по катафалку, по оркестру, по прибывшим чиновникам и их женам, точно так же озирался Бретон, на меня не обращали никакого внимания. Когда мы шли вниз по Суффло, они громко говорили и смеялись, а я думал о своем… шпиль Эйфелевой башни был похож на вонзенный в мягкие ткани облака шприц. Они меня куда-то пригласили, – кажется, в театр, – я рассеянно отказался, и мы расстались… на много лет – кое-кого из них я увидел только в театре Michel во время знаменитой потасовки. Я отправился бродить в Люксембургский сад… гулял, надеясь никого не встретить, в голове гремел, трещал, стучал колесами старый трамвайчик, на котором уехал отец на вокзал, он лихо запрыгнул на подножку, весело помахал нам рукой, у него был беззаботный вид, все было как всегда, обычная поездка, стояла теплая, слегка дождливая весна, на нем был серый английский плащ, подчеркивающий его стройность, французский черный берет, теплые брюки, одной рукой он прижимал к себе перевязанный ремешком полушубок, завернутые в бумагу зимние ботинки и шапку – таким мы видели его в последний раз (Place de l’Étoile, 23 mars 1917) [31] Площадь Звезды, 23 марта 1917 года.
. Тот старенький трамвай еще долго ходил, – может, лет семь или восемь, – я много раз на нем оказывался и старался сесть там же, где сел тогда папа (надежду на его возвращение я окончательно утратил, когда развалюху сняли с маршрута, заменив более быстрой и вместительной автомотрисой с двумя вагонами). Заиграл оркестр, я нарочно ступал по сухой опавшей листве, чтобы наполнить голову мягким нежным шорохом, чтобы не слышать приближающегося оркестра, не думать об отце, не думать о России, не думать.
Сегодня утром я проснулся со смутным ощущением, что упускаю нечто важное, будто мне ссужены время и свобода не затем, чтобы я метался по волнам уличной революции, а для чего-то более значительного – например, потрясений, которые происходят в умах, то, чего никто не видит: не разбитые витрины, но разбитые сердца! Если бы я мог стать призраком, если бы мог проникать в души людей, считывать с покрова вещей их истории…
В редакцию телеграфировали мои знакомые из Нантера: собирают всех репортеров и журналистов; хотят, чтобы я принял участие в митинге у Триумфальной арки; будут ждать меня у метро Гюго. Их было человек пятнадцать, мы пешком направились на площадь Звезды. Их лидер, Филипп по прозвищу Фидель, сухопарый студент лет двадцати, с которым я уже разговаривал в Нантере, всю дорогу не умолкал, он был в невероятно возбужденном состоянии. Во время нашей первой встречи он мне показался вполне рационально мыслящим, и говорил он не так быстро; в этот раз Фидель щебетал, как воробей, я почти ничего не понимал, к тому же он говорил только одной частью лица, с сигареткой в углу рта, меня это раздражало. Они торопились. Их флаги привлекали внимание, со всех сторон летели крики. Площадь у Триумфальной арки усыпана листовками. Народу тьма. Я открыл рот… «Филипп, это невозможно!» Он усмехнулся: «Это Париж, тут все возможно. Мы делаем историю для всего мира!» О, сколько гордости за родной город! Я улыбнулся… но будь я парижанином, ответил бы я как-то иначе? Я бы тоже нашел себе какого-нибудь простофилю-журналиста и самодовольно выплескивал бы из себя лозунги. Я быстро потерял Филиппа в толпе. Впрочем, я в нем больше не нуждался. Происходящее говорило само за себя. Флаги, транспаранты, свернутые и развернутые. Парни и девушки в майках с нарисованными на них иероглифами – наверное, маоисты. Солнце. Дружелюбный прохладный ветерок. Пение «Интернационала»… скрипки, гитары, гармоники… Я ходил в толпе, задавал вопросы, слушал, записывал… Скоро стало ясно, что ничего путного собрать не удастся: никто толком не знал, почему тут оказался, точно их разбудила неведомая сила и погнала на манифестацию. Все были разгневаны жестокими действиями церберов. Смешной лысый работник профсоюза энергично нес марксистскую ахинею. Показалось забавным. Нет, ерунда. Сумасшедший (и антисемит к тому же). Все ясно, выключаю магнитофон, merci bien, monsieur. Подпрыгивая и напевая, студентки требуют немедленного прекращения войны во Вьетнаме, освобождения своих товарищей из Санте… Вывести жандармов из Латинского квартала! Вся власть студентам! Требования и лозунги… Песни, стихи, поцелуи… И так до глубокой ночи, а утром меня задержали. Магнитофон разбили. Скрутили руки и засунули в «panier à salade» [32] Полицейский вагончик для задержанных (фр.).
, не сопротивлялся, но все равно получил несколько хорошеньких тычков. До утра проторчал в набитой до отказа камере. Одни студенты. Гвалт, курево, гвалт. Всю ночь как в поезде. Даже покачивало под утро. К полудню начали выводить, регистрировать и – что меня очень удивило – выпускать. Дошла очередь до меня.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу