— Беда, Лексей, когда в доме одни девки, — опять заговорил Фомин. — Замуж им надо, а в нашей деревне из молодых один Федька, да и тот…
— Зашибает? — спросил Рыбин.
— Кабы это… Хворый он…
Рыбин пожалел про себя незнакомого ему Федьку и спросил:
— Значит, плохо насчет парней в вашей деревне?
— Хуже некуда, — откликнулся Фомин.
Рыбин усмехнулся.
— Меня бы, ё-мое, туда.
Фомин помотал головой.
— Пусти козла в огород! После тебя, Лексей, детские ясли открывать придется.
— А как же! — Рыбин подмигнул Фомину, а сам подумал, что он в той деревне никому не причинил бы вреда, просто выбрал бы себе хорошую девушку и зажил с ней душа в душу: он давно страдал от душевного одиночества, но не признавался в этом даже себе.
— На парней сейчас спрос, — сказал он, отрешившись от своих дум. — В госпитале лежал — насмотрелся. Какую хочешь выбирай, на любой, как говорится, вкус и цвет. — Снова подмигнул Фомину и добавил: — Это мне нравится!
— Тебе — да, — уныло согласился ездовой. — А у меня сердце кровью обливается. Старшенькой двадцать пятый годок пошел, а она все еще дома. Сестрам тоже срок наступил, а там и другие доспеют. Самая младшенькая отписывает: мать и сестры целый день то в поле, то на ферме. Она одна управляется — и в школу надо, и по дому.
— Трудно ей, — посочувствовал Рыбин.
— Трудно, Лексей! Ох как трудно! И не только ей — всем! Хоть та дочка и любимица моя, отцовское сердце за каждую болит. Ты, примечаю, крестьянскую жизнь понимаешь. Когда на ночевки в деревнях становимся, глаза твои жалостливыми делаются.
Рыбин смутился, словно Фомин уличил его в чем-то нехорошем. Проворчал:
— Кончай ныть, старый. Вон Кущ пыхтит — сейчас расскажет, зачем майор приезжал.
Подошел младший лейтенант. Он объяснил, что их взвод поступает в распоряжение командира стрелковой роты старшего лейтенанта Вьюгина. Рыбин воспринял это сообщение равнодушно — для него не имело значения, где и с кем он будет воевать. Он только подумал, что их «сорокапятки» (в артдивизионе было всего две таких пушки) не пробивают броню фашистских танков, что они устарели и их давно пора сменить на более современные противотанковые орудия. Увидел вмятины на щитке «сорокапятки», заплаты на шинах и сказал сам себе, чувствуя, как у него теплеет в груди, что его старушка славно повоевала и довоюет, если, конечно, посчастливится, до самого конца войны.
Рыбин уже давно не обращал внимания на дождь. Ему казалось: этот дождь идет вечно, никогда не кончится, на небе никогда не появится солнце, будет только дождь, дождь, дождь и унылая, наводящая скуку дорога. Он старался ни о чем не думать, но мысли все время возвращались к Наде и Егору. Это удивляло: на его жизненном пути и раньше встречались люди, похожие на Надю и Егора. Они интересовали Рыбина, пока были рядом. Потом лица этих людей, их голоса, жесты тускнели в памяти. А сейчас ему почему-то захотелось, чтобы Надя и Егор встретились еще раз.
Временами дорога забирала вверх, и тогда на лесных опушках виднелись хутора — два-три строения под соломенными крышами, реже под дранкой. Оттуда тянуло парным молоком. Запах парного молока напоминал Рыбину то, что оставило в его душе светлый, радостный след. Перед глазами возникла деревня, в которой он был на производственной практике, когда учился в техникуме. Деревня стояла на высоком берегу реки, тихой и спокойной, наполовину заросшей камышом и кувшинками. Дно реки было вязким, илистым, вода попахивала болотом, но, несмотря на это, Рыбин каждое утро купался — входил, обхватив руками плечи, в студеную, вызывавшую озноб и легкое посинение кожи воду, окунался несколько раз, заткнув нос, закрыв глаза, и, стуча зубами, выскакивал на берег, снимая на ходу прилепившиеся к телу водоросли, противные, расползавшиеся в руках. Там, на берегу реки, он и познакомился с Марусей, симпатичной семнадцатилетней девушкой. Маруся работала дояркой, от нее всегда пахло парным молоком, и теперь этот запах напомнил Рыбину все то, что испытывал он, когда любил эту девушку и она любила его. Та любовь была их первой любовью, самой нежной, самой искренней и самой мучительной, которую никогда не забудешь. Тогда каждый взгляд Маруси, каждая улыбка вызывали трепет; тогда все было внове; тогда он страдал и мучился, как никогда не мучился и не страдал после; тогда в нем говорили только чувства, а разум молчал, разум ничего не взвешивал, ничего не сопоставлял; он, Рыбин, был весь порыв, и она понимала это и платила тем же, только боялась зайти слишком далеко; и он, догадываясь об этом, не стремился к запретному, к чему стремился сейчас. Испытать бы снова все то, что испытал в неполных восемнадцать лет, изведать радость первого поцелуя, подарить первую несмелую ласку и в ответ получить еще более несмелую — ту, от которой потемнеет в глазах, и ты поймешь тогда, что любим, и от сознания этого тебе захочется петь, смеяться, броситься очертя голову туда, куда прикажет она. Неужели ушло это навсегда? Неужели неповторима радость первой любви, неповторимы открытия, сделанные тобой в то далекое время?
Читать дальше
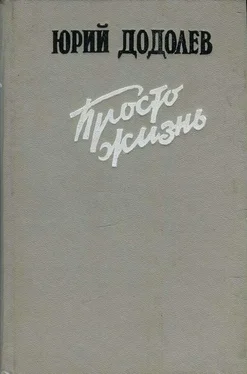




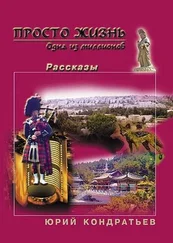



![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)


