Продолжая улыбаться, Рыбин пояснил:
— Сами вы не познакомитесь — смелости не хватит. А это дело житейское, понятное всем… Подавайте-ка друг другу руки!
Егор назвал себя и мучительно покраснел.
— Надя, — сказала девушка и тоже покраснела.
— Значит, Надежда? — переспросил Рыбин. — Хорошее имя. Со смыслом! На войне для солдата главное — надежду иметь. И коль его девушку так зовут… — Рыбин помолчал, выбирая слово покрасивее, но не нашел такого и закончил: — …замечательно!
Он стал вспоминать, были ли у него знакомые Нади. Девушки с таким именем вроде бы ему не встречались, и Рыбин огорчился: слово «надежда» вдруг приобрело для него особый смысл.
— У меня тут подруга есть, — неожиданно сказала девушка. — Тоже Надя и тоже сандружинница. Между прочим, москвичка. Ее так и называют у нас — Надя-москвичка. Могу познакомить, если встретиться придется.
— Не надо, — отказался Рыбин. — Я с девушками сам знакомлюсь.
На вырубке, там, где дорога сворачивала в лес, появился Кущ. Сложив руки рупором, позвал Рыбина.
— Черт! — выругался ефрейтор.
— Ты чего? — удивился Егор.
— Покоя от него нет. — Рыбин кивнул на младшего лейтенанта.
Дождь все моросил и моросил. Он был похож на манную крупу — такой же мелкий. Все вокруг: деревья с остатками листьев, мохнатые ели, видневшийся на пригорке и, видимо, покинутый жителями хутор — имело унылый, обреченный вид. Колонна шевелилась, напоминала огромную гусеницу. Хлопали кнуты, из лошадиных ноздрей вырывался пар; кони хрипели, увязали в липкой грязи. Рыбин только сейчас заметил, что колонна двинулась. Сказал:
— Теперь до самого конца без отдыха будем топать.
— Почему? — поинтересовался Егор.
— Передовая близко.
— Близко?
— Километра четыре осталось, — подтвердила Надя.
Ей хотелось узнать, где, в какой части будет воевать Егор, но она стеснялась Рыбина.
— Прощайте, голубки! — сказал он. — Может быть, встретимся, а может, и нет. — По-доброму улыбнувшись, посоветовал Наде и Егору обменяться адресами. Добавил: — Письма на войне — великое дело.
Сказав это, Рыбин незаметно для других вздохнул: сам он никому не писал и ни от кого не получал писем.
— Я бы с радостью дал адрес, — неуверенно произнес Егор. — Только нам еще не объявили его.
— Объявят, — обнадежил Рыбин.
Надя загрустила: Егор ей понравился. А почему понравился — объяснить не могла. Да она и не спрашивала себя почему. В восемнадцать лет редко задают такие вопросы. Просто понравился — и все.
3
Колонна двигалась к реке Дубисе, на левом берегу которой закрепились немцы. Ни Рыбин, ни Егор, ни Надя еще не знали и не могли знать, какая роль будет отведена им в предстоящем наступлении.
Рыбин шел молча, меся сапогами грязь, поглядывал на обросшего рыжеватой щетиной Фомина — тот крутил вожжами и время от времени покрикивал:
— Но-но-но, милыя! Веселей шагай!
Ездовой был такого же роста, как Кущ, и такой же щуплый. Остриженные машинкой волосы заметно подросли, стояли торчком, напоминая щетину в щетке. Фомин часто снимал шапку, вытирал подкладкой мокрое лицо.
«Коням тоже нужен отдых, — подумал Рыбин, взглянув на измученных лошадей. — А то ахово будет». Ефрейтор боялся, что их бросят в бой прямо с марша — такое уже было полтора года назад. В памяти остался подлесок, через который напрямик, ломая кусты, неслась «сорокапятка», обезумевшие кони, Фомин в расстегнутой телогрейке и почему-то без каски. Чуть в стороне шлепались мины, поднимая в воздух тучи прошлогодней листвы. Еще дальше захлебывались пулеметы, и Рыбин никак не мог определить по звуку, чьи они — наши или немецкие. Земля была сухой, у пней пробивалась молодая травка — это тоже осело в памяти. Деревья вздрагивали, как испуганные, когда неподалеку шлепалась мина, воздушная волна пригибала тонкие березки. «Сорокапятка» подпрыгивала на кочках, цеплялась за кусты, Фомин нахлестывал и нахлестывал коней. Рыбин весь исцарапался, разбил нос, но боли не чувствовал. Он ругался, подгоняя Фомина, ему казалось: ездовой не очень-то торопится, бережет коней. Они выскочили на лужайку, залитую лучами заходящего солнца. Слева, справа и впереди были немцы. Рыбин не мог вспомнить, как развернули пушку, не помнил, успели ли вкопать сошники, он стал соображать только тогда, когда ощутил глазом нагретый солнцем окуляр прицела…
За три года Рыбин участвовал во многих сражениях, больших и маленьких, и он стал вспоминать другой бой, когда они отмахали под палящим солнцем, не останавливаясь на отдых, километров пятьдесят. (В то время они воевали на юге: сюда, в Прибалтику, их перебросили полгода назад.) Во фляжках тогда не осталось ни капли воды, в горле пересохло, запекшиеся губы вспухли, как нарывы, по лицам катился пот, нательные рубахи липли к телу, густая, пахнувшая жженым пыль забивала нос. Все: бойцы, командиры, кони — нуждались в отдыхе и страдали от жажды, но на пути не попадалось ничего: ни ручейка, ни родника, ни даже затянутого плесенью пруда, которые так часто встречаются в средней полосе России. Дорога петляла по степи, раскрашенной белыми пятнами солончаков; изредка попадались одиноко стоящие деревья, и было непонятно, что дает им жизнь в этой, казалось, забытой богом степи. Рыбин подумал тогда, что глубоко под землей, должно быть, залегают грунтовые воды, питающие корни деревьев. Они спешили, понукая коней, подбадривая друг друга, и позабыли о жажде и усталости, когда впереди возникла, как мираж, темная полоска подлеска и послышался все нарастающий гул боя.
Читать дальше
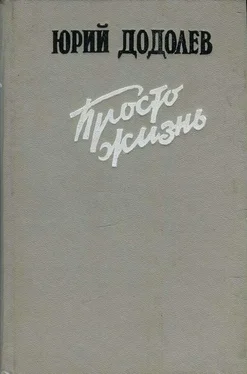




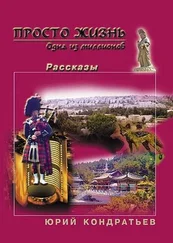



![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)


