— Не от хорошей жизни, батюшка, он с этой самой Людмилой, к которой мы теперь идем, сошелся, — сказала Рассоха. — Его половина — самая вредная бабенка в нашем селе. Бухгалтером в сельпо сидит, а он в колхозной конторе работает. Она его по всему селу славит, а сама-то… — Рассоха сплюнула. — Хочешь верь, хочешь нет, батюшка, моего мужика тоже обхаживала, но мой не поддался ей. Квашнин, слышь, два раза на развод подавал — хотел с Людмилкой честь по чести жить, но его жена-стерва на суде такой вой подняла, такую напраслину на мужа возвела, что суд отказал ему. Двое детишек у них: девочка в пятый класс пошла, а малец несмышленыш еще. Сам-то он человек слабый, душевный, ему детей жалко, не может он, горемыка, дверью хлопнуть и уйти. А если бы и мог, то его половина все село взбаламутила бы, во все концы письма разослала: обижает, мол. Сама не живет путно и ему жить не дает.
Галинин решил в самые ближайшие дни подойти после службы к Квашнину и утешить его.
Из всех треб православной церкви соборование было для Галинина самым тягостным, неприятным обрядом. Но он и не помышлял отказывать тем, кто нуждался в его утешении.
Родители больной встретили его сдержанно, молча показали на дверь комнаты, где лежала Людмила.
Она была в сознании, даже усмехнулась, когда Галинин вошел к ней. Ее кожа была почти прозрачной, остро торчал нос, бескровные губы продолжали кривиться в усмешке, она попыталась что-то сказать, но, как только Галинин произнес изначальные слова молитвы и сделал первый мазок елеем, успокоилась. Он уже понял: этой молодой женщине осталось жить, может, день, может, считанные часы, внезапно подумал о Лизе и, расстроившись, чуть не выронил сосуд с елеем. Его голос дрогнул, по щекам покатились, запутываясь в рыжеватой бороде, слезы. Это произвело на всех — и особенно на Рассоху — большое впечатление.
Домой Галинин возвращался один, шел огородами, на которых желтела сложенная в кучи картофельная ботва. Земля была сухой, рассыпалась под ногами как песок. Хотелось понять — раскаялась в последние часы своей жизни Людмила или же ей суждено умереть грешницей? «Я ведь тоже грешен», — вдруг подумал Галинин.
Солнце пекло немилосердно. Было жарко, в глазах двоилось, липкий, противный пот, казалось, хлюпал под мышками. «Deus! Disecrne causam тает», — простонал Галинин и, цепенея от собственной дерзости, потребовал:
— Откройся мне, сыне божий! Тогда поверю, что ты с нами.
Весь оставшийся день он был возбужден, на вопросы жены отвечал сбивчиво. Чувствовал — с ним что-то происходит. Перед глазами вставали картины — немецкий танк, Ольга Ивановна, Ветлугин, Лариса Сергеевна. Разболелась голова. Лиза посоветовала лечь.
— Еще и восьми нет, — возразил Галинин, посмотрев на настенные часы, и начал ходить по комнатам, несколько раз открывал Библию, но читать не мог — буквы сливались в черные линии.
Показалось, что недомогание возникло от дерзостного обращения к Христу. Он отогнал эту мысль, сказал себе, что Христос жил почти два тысячелетия назад, никогда не вернется к людям.
Лег Галинин поздно. Через полчаса, услышав ровное дыхание жены, осторожно сполз с кровати, поправил гайтан [5] Гайтан — шнурок, на котором носят нательный крест.
и, не надевая шлепанцев, ринулся на кухню — какая-то непреодолимая сила повлекла его именно туда. Там он потоптался, ощущая ласковое тепло еще не остывшей печи, покурил, бросил окурок в лохань под умывальником с медным хоботком и неожиданно услышал какой-то шорох. Около дома кто-то ходил, словно раздумывал — войти или нет. Душа наполнилась ожиданием, сладостными предчувствиями. Прошло несколько мгновений, и Галинин увидел Христа.
Христос, прекрасный и величественный, был в световом облаке, похожем цветом на только что выкачанный мед. Блики от этого облака трепетали на стенах, кухонная посуда светилась как бы изнутри, простенькая занавеска на окне и измятое полотенце на гвозде оказались расшитыми серебром. Галинин рухнул на колени и, бессвязно бормоча восторженные слова, пополз к скорбно застывшему Христу, простирая к нему руки. Душа переполнилась ликованием — божий сын снизошел. Захотелось выразить свой восторг страстными, полными любви словами, но Христос сделал движение головой, и Галинин понял: спаситель призывает его молчать.
Послышался шорох, вбежала Лиза — с распущенными волосами, в ночной рубахе. Обняв голову стоявшего на коленях мужа, встревоженно спросила:
— Что… что с тобой, милый?
Читать дальше
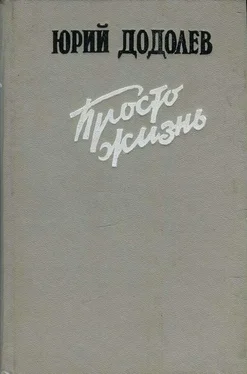




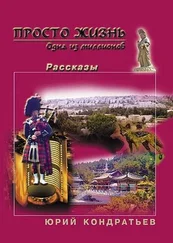



![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)


