Теперь Леонид Николаевич Сорокин — мастер цеха, его портрет висит около проходной на Доске почета. Он женат, у него двое детей. Пока они были маленькие, Анна Федоровна жила в его семье, потом он отправил мать к братьям. Месяц у одного сына, месяц у другого, месяц у третьего — так она и живет. Ей уже восемьдесят лет. Иногда я прохожу мимо нее: она сидит на лавочке у соседнего подъезда. Ей, должно быть, всегда холодно: даже летом она не снимает прорезиненный потрепанный плащ.
— Здравствуйте, Анна Федоровна! — громко говорю я.
Она медленно поворачивает голову, неуверенно кивает.
Но чаще я прохожу молча. Она меня не видит и не слышит; в выцветших глазах — тоска. О чем думает Анна Федоровна? Что вспоминает?
— Пускай живет, — снисходительно говорит Леонид Николаевич, когда мы случайно встречаемся возле дома. — Помнишь, как она лупила меня? А я к ней с полным уважением — пою, кормлю. Скоро к брату отравлю: пора и там погостить.
Девятого мая, когда я надеваю свои награды, Леонид Николаевич поздравляет меня и добавляет:
— Это не только твой праздник, но и мой.
Он начинает рассказывать, как работал во время войны, как было голодно, холодно, он не помнит, а может быть, не хочет помнить, что до армии я тоже вкалывал, на собственной шкуре испытал все тыловые тяготы. Леонид Николаевич живописует, как трудно было в тылу, а перед моими глазами возникает мокрый от осеннего дождя лес, в котором наша рота ожидала сигнала к атаке. Еще полчаса назад все вокруг шуршало и шевелилось от дождевых струй; водяная пелена перед лесом, там, куда нам предстояло идти, казалась самой надежной маскировкой, теперь же от вздувшейся неподалеку речки наползал туман — реденький, напоминавший сильно разбавленное молоко; с шумом шлепались стекавшие с ветвей капли; ночная мгла постепенно рассеивалась, уступая место серенькому утру, которого мы ждали и боялись, потому что еще ночью, когда нашу роту внезапно передвинули в этот лес, поняли — неспроста. Взводные уже дали последние наставления командирам отделений, а те, в свою очередь, объяснили нам, солдатам, что роте приказано взять опорный пункт — ощетинившееся колючей проволокой и пулеметами сельцо. Нам не сообщили, пойдут ли впереди нас танки и сделаны ли проходы в проволочных заграждениях, но мы надеялись: танки будут прикрывать и саперы потрудились на совесть. Сидевший на пеньке парень сказал, что в стороне от лесной дороги видел, отойдя по нужде, «тридцатьчетверки». Эти слова очень ободрили меня.
Мы ждали артподготовку. Позвякивали котелки, кто-то простуженно кашлял; разговаривали все почему-то вполголоса, цигарки прятали в рукава. Махорочный дым стелился низко-низко, был таким же реденьким, как наползавший туман. В полумраке было трудно разглядеть лица однополчан, но я хорошо представлял, какие они, эти лица, и что на них. Все мы отлично понимали: сегодня кто-то будет убит — или повиснет изрешеченный пулями на колючей проволоке, или рухнет на поле, отделявшее лес от немецкого опорного пункта. Я вспоминал мать, бабушку, просил и бога и черта: «Пусть сия чаша минует меня».
Артподготовки все не было. Сидевший на пне парень пробормотал, что атака, должно быть, переносится или вовсе откладывается. И сразу же за лесом возник гул, над головой с воем понеслись снаряды. Несколько минут мы молча слушали эту музыку, то взглядывая вверх, то втягивая головы в плечи, потом начали подбадривать артиллеристов, как будто они могли услышать нас.
Сколько времени продолжалась артподготовка, я не знаю.
Вдруг наступила такая тишина, что мне показалось — оглох. И, словно опровергая это, отчетливо прозвучало многократно и разноголосо повторенное: «Вперед!» Держа карабины наперевес, мы высыпали из леса и, тяжело дыша, побежали по бугристому скользкому полю, на самом краю которого смутно виднелись соломенные и покрытые дранкой крыши. Танков не было. Но и немцы не открывали огонь. Я с радостью подумал, что они, наверное, покинули сельцо. И только тогда, когда перед глазами открылась колючая, в ржавчине проволока с проделанными в ней узкими проходами, поднялась такая пальба, что наш взвод вынужден был отойти и залечь в пересекавшей поле неглубокой впадине с пологими склонами. На дне стояла вода, но размышлять было некогда. Сырая шинель очень скоро стала совершенно мокрой, живот ощутил противный, липкий холод. Через несколько минут на мне не осталось ни одной сухой нитки.
От командира роты приполз связной с приказанием продолжать атаку. Мы поднялись, пробежали метров пятьдесят и, потеряв семь человек, снова откатились во впадину. Взводный — молоденький младший лейтенант с интеллигентным лицом — чуть не плакал и ругался, как ломовой извозчик с Конного двора. Если бы первый и третий взводы не ударили бы по немцам с флангов, то я не представляю, что было бы. На окраине сельца, когда до ближайшей избы остались считанные метры, перед моими глазами сверкнуло, грудь ощутила страшную боль, и я потерял сознание…
Читать дальше
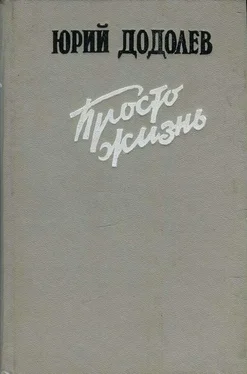




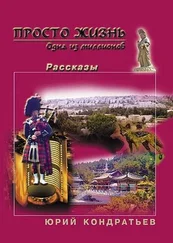



![Валерий Попов - Сон, похожий на жизнь [Повести и рассказы]](/books/414373/valerij-popov-son-pohozhij-na-zhizn-povesti-i-ras-thumb.webp)


