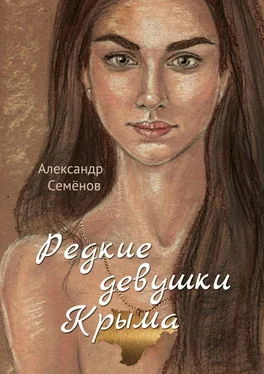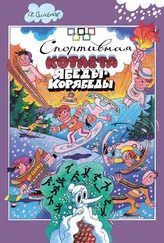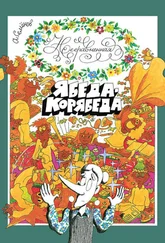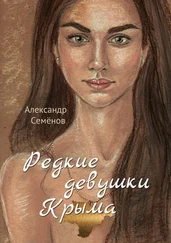Один вопрос не давал мне покоя, являясь и днём, в виде привычных слов, и во сне – то дырявой шлюпкой, в которой не дойти до причала, то ветром, раскачивающим дома. Почему я не помог ей? Ведь хотел? Не скажу, что так уж прямо рвался, но мысль вмешаться была. И осталась мыслью. Почему бездействовал там, на поляне? Неужели я трус, испугался общего мнения? Никогда его не боялся, я и в комсомол не вступил, потому что невыносимо скучно было учить материалы разных пленумов и съездов. Почти все вступали, одни по традиции, ради мифических будущих льгот и карьерных благ, другие – полные энтузиазма строить социализм с человеческим лицом, а я положил на это болт, как и на все возможные мнения. И каких-то маловероятных кулачных столкновений тем более не боялся, об этом и думать смешно. И всё-таки?..
Может быть, не вмешался из-за Оксаны? Увидит меня с Леной, подумает: ну и гуляйте, и сидите вместе за партой, и… Нет. Во-первых, не подумает. Наоборот, я бы скорее вырос в её глазах, она такая. А во-вторых, не надо прикрываться Оксаной, причина только во мне. И только одна, – понял я наконец. – Гораздо больше, чем вмешаться, хотелось посмотреть, что произойдёт. Интересно было, вот и не помог.
Ладно, посмотрел. Но почему и дальше оставался в стороне, когда начались школьные будни? Когда в понедельник перед уроками Метц, уложив Лену грудью на парту, запустил пятерню под тёмно-синюю юбочку, а потом сделал несколько характерных движений тазом и кивнул Рыбину: давай, мол, тоже, – а тот всем видом показывал отвращение, хватал себя за горло, высовывал язык и ногами отбрыкивался от Седла, который ржал и пихал его в спину, – почему тогда я отвернулся? Потому что сам не без греха? Вряд ли. Мои приставания к сироткам Мэри были безвредны как вечерний бриз и не терпели посторонних взглядов. И, к тому же, я чувствовал, что в глубине души Мэри не против. Между нами, как я сейчас понял, существовал негласный уговор: я не сделаю ничего обидного для вас, а вы уж подыграйте, изобразите хоть маленькую стыдливость… Не будь его, я бы пальцем их не коснулся. Да, кстати, и не касался теперь, увидев, куда может завести и какие формы принять это развлечение. А сиротки оказались хороши. «Эй ты, иди сюда!» – не крикнула, а как-то прошипела младшая сестра, выглянув из девчоночьей физкультурной раздевалки. Лена Гончаренко, стоявшая в коридоре, направилась к ней, но недостаточно быстро, по мнению Мэри, – и та, дёрнув за руку, втащила Лену внутрь и захлопнула дверь. Может быть, не вмешивался, потому что статус, который Лена получила в классе, не предполагал другого обращения, кроме «эй ты, иди сюда»? Да в гробу я видел все статусы.
Если честно, это был новый для меня опыт. Никто в классе прежде не вызывал к себе такого чувства. Может быть, дело было в нашей лени и разобщённости, может быть – в том, что есть куда более интересные занятия, чем толпой или поодиночке мучить того, кто не способен дать отпор. Или просто раньше мы умели быть людьми. Три года назад Нина Вячеславовна предупредила, что в классе будет учиться девочка с больным сердцем. Она не такая, как мы, её нельзя волновать: какой-нибудь неожиданный хлопок в ладоши за спиной для тебя, Изурин, пустяк, а у неё может вызвать приступ. Яна и вправду выглядела болезненно: с багровым, словно от постоянной жары, лицом, синеватыми ногтями, с тихим голосом и движениями как в замедленной киносъёмке, – но, когда я привык, оказалась умной, смешливой девчонкой, очень способной к английскому языку. Мы запросто с ней общались, соблюдая несложные правила, о которых рассказала Нина, а Оля Виеру подружилась и до сих пор переписывалась. Теперь Яна жила в Севастополе, чувствовала себя после операции гораздо лучше и занималась парусным спортом. Весной она прислала фотографию, где стоит на борту «Дракона», в спасательном жилете и поясе, пристёгнутая к мачте тросом, очень выросшая, загорелая, довольная.
Чуть позже приезда Яны один парень из нашего класса заболел лейкемией, – мы знали, что это за болезнь, благодаря истории о японской девочке, не успевшей сделать тысячу бумажных журавликов. Витёк на целый год исчез, потом вернулся распухший, с лицом в мелких гнойничках, но мне казалось, что он никуда не уезжал и ничуть не изменился. Через полгода он и в самом деле стал прежним. И во всём классе не нашлось придурка, который дал бы Яне и Витьку понять, что они отличаются от других. А если бы такой появился – уверен, печальна была бы его судьба. Здесь уж мы забыли бы всю свою неколлективность, так огорчавшую классного руководителя.
Читать дальше