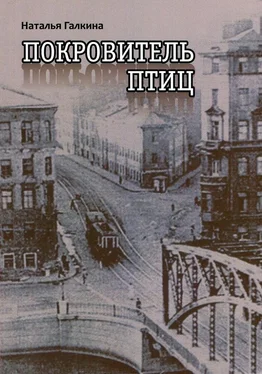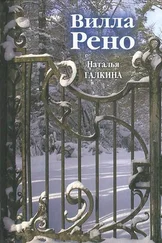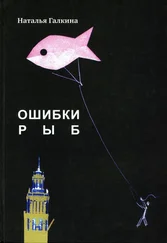Серебристый фонтанный голосок претворял дешевый портвейн в асти спуманте, а молодежные невежественные бредни в философские беседы. Наяд называли мочалками, те не обижались, глядели своим талантам, титанам, божочкам в прокуренные зубы; а почему его все называют ГБ? не ГБ, а БГ! кто ж такую дуру привел, ну ничегошеньки не знает! зато она радует глаз. Когда волшебный водомет иссяк, его функцию взял на себя шум листвы.
Позднейшее поколение романтиков, менее прокуренное, более избалованное, под причудливыми ник-неймами переговаривалось, пребывая в нетях сети, обсуждая сад. Обмениваясь фотографиями, особо любили снимать площадку с пересохшим фонтаном, обваливающиеся балюстрады балконов, арки при входе, майоликовые головы; к данному, приближенному к сегодняшнему дню, периоду относится самоновейшая легенда о кошках. Если у вас пропала кошка (кот), писал пользователь пользователю (о, новый жанр: диалог пользователя с потребителем!), бегите в сад Сен-Жермен, найдете животное там, живое ли, призрак кошачий, возродившееся ли, реинкарнированное, дублированное, — обрящете! Прилагались фотки — теми, кто дал совет, теми, кто ему последовал. Кошек наблюдалось несметное количество, всех цветов, размеров, статей и повадок.
Подходя к арке, Клюзнер сказал:
— Однажды в переплетенной подборке журналов дореволюционных, не помню, было ли то «Солнце России», «Нива», иное питерское издание, попалась мне картинка с подписью: зимой 1914–15 гг. сын хозяина дома господин Гукасов-младший с приятелем Липским возвели над фонтаном восьмиметровую скульптуру ледяную Георгия Победоносца. Белая скульптура, две маленьких черненьких фигурки авторов. Я умилился, мне хозяева журнального тома картинку пересняли, долго я фото на бюро держал. Но однажды утром, после кошмарного сна с левой ноги вставши, увидел я в белой скульптуре центральную часть черносотенной эмблемы — «Союза русского народа»? «Михаила Архангела»? А поскольку я наслышан был о чудовищных еврейских погромах на юге России 1905 и последующих годов, инициированных черносотенцами, дрогнул я, картинку разорвал, потом жалел, думал: может, померещилось?
— Вот ты наслышан, — сказал Бихтер, — а я роман читал об этих погромах, написанный известным детским писателем Борисом Житковым, «Виктор Вавич», Ничего страшнее этой книги не знаю.
— Дай почитать.
— Роман до сих пор не издан. Я рукопись читал. Ведь я редактор. Чего только по случаю не прочтешь.
— И еще. Я уж сказал тебе, что в доме Гукасова, в доме с тройной аркой, возле которого мы сейчас стоим, жил Таганцев-отец. А в связи с заговором Таганцева-сына Гумилёва и расстреляли. И именно сюда тянуло Николая Степановича барышням вирши читать. Вот как мне эти две вещи пришли на ум, я в сад ходить перестал. Давно тут не был. Всё казалось мне недобрым, зловещим.
Навстречу им шли две девочки, русоволосые, розоволикие, кареглазые, одна постарше.
— Дети начала двадцатого века с акварели Серова или Бенуа, — сказал Бихтер, — ни на пионерок, ни на октябрят не похожие.
— Гречанки, — сказал Клюзнер.
— Почему гречанки?
— Они живут под левым Коллеони, это дочери архитектора Кирхоглани Валериана Дмитриевича, его сослуживцы по кафедре училища Штиглица зовут «вологодский грек». Я шел по Литейному, он мне навстречу со знакомым мне архитектором Васильковским, который нас друг другу и представил.
Девочки поздоровались, улыбаясь, Клюзнер церемонно раскланялся.
Сестры Кирхоглани учились в школе со скульптурными медальонами на углу Жуковского и Маяковского. Старшая, Ирина, ходила в знаменитый левинский кружок Дворца пионеров возле Аничкова моста; после школы поступила она в училище Штиглица, именовавшееся тогда Мухинским, на кафедру интерьера, где преподавал ее отец. А младшую все писатели видели на похоронах трагически погибшего Михаила Чулаки, все слышали краткую ее речь, многие помнят, как вышла от Общества защиты животных (в нем кошатник и собачник Чулаки состоял) маленькая гречанка Елена Кирхоглани и произнесла негромким нежным голосом своим: «Он оберегал братьев наших меньших от зла, которое им в нашем мире часто причиняют, а себя уберечь не сумел. Но я знаю: теперь он в лучшем мире, где зла нет».
Собеседники вышли на Литейный, обдавший их шумом, оглушивший звяканьем выворачивавшихся к цирку и от цирка трамваев.
— В какой тишине мы побывали! — сказал Бихтер, — в беззвучном саду.
— Что ты, — отвечал Клюзнер, — он полон голосов. У него и эхо свое, как в гроте. Фонтан, листва, птицы.
Читать дальше