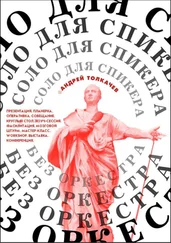— Горят куранты староместской ратуши! — говорит радио на русском.
Мама выносит за папой посудину.
— Бедняга, — говорят люди.
Потом по радио играют веселую мелодию, которую я знаю. Она похожа на «Солдатушек». Красная Армия. Мама держит папину руку.
Мужчины, возвратившись с улицы, приносят новости. Иногда брезжит надежда, и снова кромешный мрак. Немцы не хотят сдаваться русским и, прежде чем уйти, все уничтожат. Но американцы уже близко!
Потом в бомбоубежище появляются немецкие солдаты. Один идет нормально, а другой пятится задом — будто они срослись спинами. Солдаты бледны, как мой папа. Идут прямо к его постели. Один тычет винтовкой в папу, другой целится в нас:
— Партизан?
Тишина, муха пролетит — слышно. Немцы приказали выключить радио. Папа хрипит.
— Партизан?! — повторяет немец.
— Больной, — объясняет кто-то, — капут.
— Krank! [14] Больной! (нем.)
— говорит моя мама, которая знает, что папа все понимает, на все реагирует, все чувствует, но сказать ничего не может.
— Гражданский, — бурчит немец, и они уходят.
Кто-то презрительно сплевывает, кто-то произносит:
— Свинья!
Кто-то предостерегает:
— Тсс…
Радио снова говорит, сначала приглушенно, потом во весь голос на русском:
— Говорит Прага! Говорит Прага! Красная Армия!
Дети уже привыкли к моему отцу, чьи завыванья и поскуливанья наполняют весь подвал, но его, по-моему, слышно и в доме рядом, с которым нас соединяет переход, грубо заделанный кирпичами, там стоит железная кирка — на случай, если нам понадобится выбираться тем путем.
Мама все время держит папину руку. Наконец он затихает.
— Уснул муж? — спрашивает кто-то.
Уснул, но во сне началась горячка. Доктор Бездековский, подвижнически навещавший нас в течение всей войны и никогда не бравший за это ни крейцера, был далеко, и у него было по горло дел на баррикадах.
Так вот и получилось, что отец схватил все-таки воспаление легких, от которого мама уберегала его все три года, и умер.
Девятого мая мы с мамой пошли встречать русских, которых мой папа так ждал. Потом пошли в похоронное бюро, и ей там предложили выбрать гроб и спросили, сколько венков она думает на него возложить. Гроб мама выбрала самый дешевый, а от венков отказалась вообще. Когда же ей показали образцы траурных извещений, отвергла всех этих «дорогих» и «незабвенных».
— Я хочу вот как… — сказала она.
И служащий записал: «После долгой болезни скончался хороший человек».
Люди говорили, что он развязал ей руки, и осуждали за то, что она не поставила ему памятника. Они осуждали бы ее еще больше, если бы знали, что она не надела на папу лучшее его платье, сохраненное с довоенных времен, а отдала сшить из него для меня мой первый костюм.
В то лето, сразу после освобождения, мы поехали с мамой в наши горы, те самые, что обручились с небом. И в деревеньку, где я познакомилась с Адамеком. Там я узнала, что Адамека уже нет. Когда началось Восстание, он убежал из дому, и его застрелили. Мать его сошла с ума.
Мне не было жаль ни папы, ни Адамека. Ни тех, кто пал. Не было жаль никого на свете.
Только когда сама я стала матерью, открылось мое сердце и ушедшим.
Папа, мамочка… спасибо вам за все.
Перевод с чешского Е. Элькинд.
Ян Боденек
В ПАРКЕ ПЕРЕД ПОЛУДНЕМ
У гуманиста был недельный отпуск. Стоял май, пора пробуждения, пора новой жизни. Все и вся возрождалось, и высидеть дома в такой час было просто невозможно. Сунув под мышку толстую книгу, гуманист прямо с утра вышел в парк. Там он сел на скамью под трехсотлетней липой и стал глядеть на деревья, на заросли кустарника, на цветочные клумбы, от которых веяло ароматом пробужденной земли и молодой зелени. За решеткой парка иногда стучали по асфальту чьи-то каблуки, а порывы ветерка то и дело доносили до него слабый шум ручья, протекавшего за его спиной, в западной части парка. Вообще же в парке была тишина, сладкая душе гуманиста тишина.
«Не нарушай тишины чтением!» — шепнул самому себе гуманист и положил толстый фолиант рядышком на скамью; он сидел сложа руки и глядел перед собой, медленно-медленно поворачивая голову из стороны в сторону, ничего не желая видеть и не видя-таки ничего.
«Глядеть, не видя, слушать, не слыша, — нет ничего более сладостного», — шептал он себе.
И он глядел, но не видел, слушал, но не слышал, потому что над ним, над высокой развесистой кроной липы, стояло сладостное солнце, не видимое со скамьи, но ласкающее его тысячами нежнейших и теплейших животворных перстов. Гуманист запрокинул к нему лицо, зажмурился и долгими, полными, сладостными глотками стал упиваться потоками жизни, исходящими от солнца.
Читать дальше
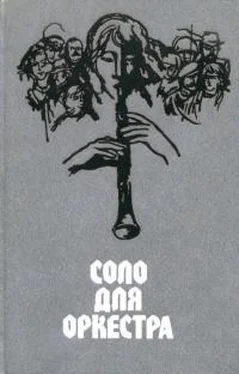
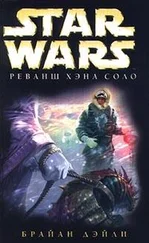
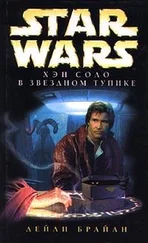



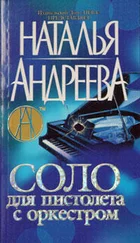
![Дмитрий Селиванов - Соло для попаданца с оркестром [CИ]](/books/404557/dmitrij-selivanov-solo-dlya-popadanca-s-orkestrom-thumb.webp)