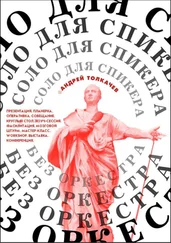Поэтому второй еще раз сказал:
— Оставь его…
Но первый был более крутого нрава.
— Ты им там не мог сказать, чтобы нам дали какого-нибудь неверующего? Католик, католик… Как нам теперь быть?! Пойми, это же приказ!
И второй прошептал:
— То-то и оно. Приказ есть приказ.
Немец смотрел на них молча. Только углубились морщины на его лице — у губ, носа и глаз. И глаза у него стали какие-то другие. Словно выцвели. И губы обесцветились. Будто к ним прилипли листья пересохшей травы. Желтоватой, сморщенной, сухой травы. Немец, не сводя с них глаз, медленно, как бы готовясь к чему-то тайком, поднял кисти рук к вспотевшей шее и так же медленно, почти торжественно, застегнул на ней цепочку.
Закончив свой ритуал, он повернулся к косогору. И вдруг… побежал. Но не направо или налево, а прямо, вверх, по крутому и открытому склону.
— Удирает! — закричал первый.
И, как по команде, раздалась автоматная очередь, ей вторили выстрелы карабина.
Немец резко остановился, выпрямившись во весь рост, потом дернулся, поворачиваясь набок, и стал клониться к земле.
Скатился он почти на то самое место, откуда начал свой бег.
— Слышь, а как его звали? — спросил первый.
Второй тер руками лицо.
— Кажется, Курт… Курт… Не помню точно.
Первый посмотрел на автомат. Облегченно вздохнул.
— Вот и всё. Мы выполнили приказ.
— Да, — кивнул второй, — выполнили.
Когда они шли лесом назад, под их ногами трещал сухой валежник, а в глаза то и дело ударяли пробивавшиеся сквозь ветки деревьев лучи осеннего солнца. К их лицам приливала кровь.
Лес уже кончался, когда второй спросил:
— Слышь, а чего он не бросился влево, в молодой ельник, или направо, вниз, к речке? Зачем он дунул вверх по косогору?
Первый не отвечал. Когда они прошли еще немного, второй опять заговорил:
— Твоя правда. Самое главное, что мы выполнили приказ.
Перевод со словацкого Н. Попова.
Эдуард Петишка
ЛЕГЕНДА О СЧАСТЬЕ
Как письмо, что вернулось: адресат неизвестен, —
остановишь свой бег в урочный час.
Улицы полны неизвестных тебе адресатов,
ибо каждый из них еще несет письмо,
которое его нашло.
Как грустно мять пальцами воздух,
когда у кого-то в руках
шелестит исписанная страница.
Нет послания безжалостней того,
что мы напишем себе сами.
С юных лет он чего-то ждал. Жизнь только начиналась, каждый день был как распахнутые настежь двери, он входил в них в ожидании чего-то, что не имело ни формы, ни названия и было подобно награде. Он был убежден, что заслужил эту награду. Счастье. И ждал счастья, которое неожиданно поразит его, ослепит как молния. Без предупреждения, потому что счастья — он был уверен — нельзя предугадать.
Чем старше он становился, тем меньше признавался себе, что верит в счастье. Он стыдился этой веры, но совсем отказаться от нее не мог. Привык бесконечно ждать, после пятидесяти эта привычка ослабела, как слабеет зрение, но все же не настолько, чтобы появилась нужда в очках.
Шестнадцати лет Войта уже блуждал по окрестностям в меланхолическом одиночестве, какое бывает только в шестнадцать, не потому, что нас покинули друзья, а потому, что мы сами решили покинуть их, чтобы добраться до самой сути некоего познания, которое еще слишком робко и потому доступно лишь ищущему одиночке. А разве одиночество не мать ожидания?
Приехав сюда, он с первого же дня в заброшенном дальнем уголке курортного парка почувствовал себя как дома. Он приехал лечиться, но здесь, в этих зарослях, в сплетении веток и листьев, ему было по-домашнему хорошо. Есть такие места. Увидишь — и ты дома, хоть прежде никогда тут не бывал. Жалко, что идет дождь. Вот если бы на эту бегущую через чащобу тропинку светило солнце!
— Не горячо? — спросила курортная сестра.
Войта оторвался от своих мыслей. Он лежал на спине, под ним — пирог из теплого, почти горячего торфа, и сестричка рукой в резиновой перчатке накладывала ему на живот черную горячую торфяную грязь.
— Нет, не горячо, — ответил он. Хотел сказать сестричке что-нибудь приятное, но ничего не придумал. И лишь добавил: — Все в порядке.
Сестричка пошла смывать с перчаток торф, вода плескалась, вытекая из крана, и всхлипывала в умывальнике. За окном тоже плескалась вода. До середины забеленное окно позволяло видеть только верхнюю половину мира. Дождь устремлялся с крыши в засорившийся желоб и хлестал через край. Навес за окном, откуда носили горячий торф, был дырявый, и тускло мерцавшие шнуры воды свисали под ним, развеваясь по ветру.
Читать дальше
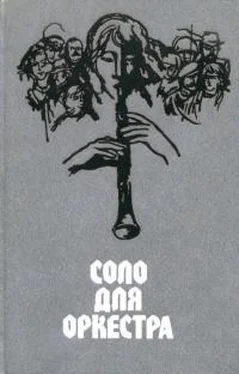
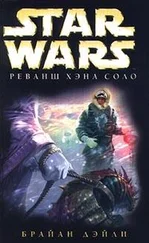
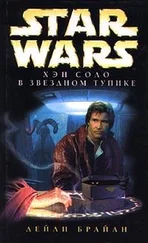



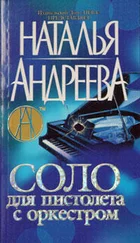
![Дмитрий Селиванов - Соло для попаданца с оркестром [CИ]](/books/404557/dmitrij-selivanov-solo-dlya-popadanca-s-orkestrom-thumb.webp)