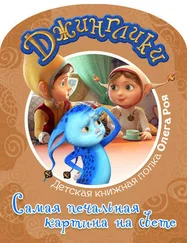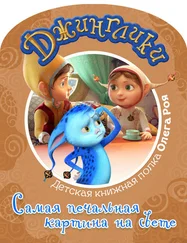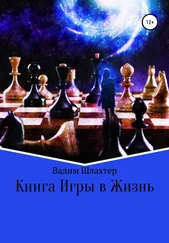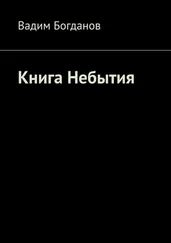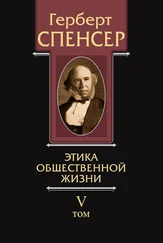– с позиций этики: жить разумно и нравственно в наличной иллюзии мира немыслимо. Отсюда предельно честная формула античного стоицизма: достойно жить невозможно, достойно умереть легко.
Что даёт нам осознание того, что нас ведет пустота? Ну, а что оно может дать? И что нам может дать какая-либо другая идея? Жизнь будет продолжаться в любом случае, и она будет такая, какой ей случится быть – от нас здесь ничего не зависит. И мы будем такими, какие есть. И делать что-то будем (или не будем) в соответствии с особенностями наших индивидуальностей и случайных обстоятельств. Нам хочется получить ответ на вопрос, почему пустота внушает одни мысли какому-то злодею, а другие мысли – добропорядочному человеку? Вообще, почему один рожден быть негодяем и мерзавцем, а другой – добрым и отзывчивым? Ответа на этот вопрос нет. Но отсутствие ответа не убеждает нас автоматически в том, что мы не являемся марионетками чего-то такого, что не дано вместить нашему разуму. Мы называем это пустотой, Балсекар – сознанием, Шопенгауэр – волей. Нам больше по душе пустота, потому что мысль останавливается у какого-то предела – всё, дальше ничего нет. Нужно замолчать. Бездонное отсутствие. Ничто. К сожалению, никто не может объяснить, почему мы такие, почему мир такой, почему жизнь такая. Слово «случай» тоже ничего не решает в данном случае, но ведь каким-то словом нужно обозначить это?
Теперь будем возражать сами себе (что поделаешь – пробуем на ощупь относительные истины), чтобы «додумать мысль до конца»: нет ни случая, ни предопределения, ни какой-то силы в виде воли или еще чего бы то ни было. Нет никакой свободы и несвободы, пустоты и наполненности, бытия и небытия – всё это слова, за которыми ничего не стоит. Нет никаких таинственных сценариев, никаких законов и смыслов у происходящего. Нами не руководит ни пустота, ни что-либо еще – никто и никуда нас не «ведет». Взывать не к кому, спрашивать не с кого. Вброшенные насильственно в непонятный мир, мы барахтаемся и приспосабливаемся, кто как может, пока смерть не прекратит наше существование, как это происходило с поколениями, жившими до нас. Вот, собственно, и всё. Похоже, что так оно всё и обстоит. Тогда чего же мы ещё ищем?
Единственное практическое значение, которое несёт для нас честная философия, состоит в том, что любое трагическое событие жизни, включая и прекращение самой жизни, становится ожидаемым. Оно, возможно, не сможет нас сильно удивить. И не более того. Да и то… Сложно структурированная иллюзия бытия, подобно мастеру пыточного дела, удивительно хитра на выдумки.
Что касается интеллектуальной жизни в целом, то она крепко привязана к биологической. И в то же время относительно самостоятельна. Что означает относительная самостоятельность разума? Она, в частности, подразумевает способность силою разума преодолевать физические страдания. Это в том случае, когда истязаемый руководствуется какой-нибудь сверхценной иллюзией, которая помогает терпеть и не показывать врагам, что страдаешь. И, не сообщить под пыткой то, что мучители желают узнать. Но, когда в качестве основного палача фигурирует сама иллюзия бытия, которая ничего не желает от нас узнать, можно сколько угодно делать хорошую мину при плохой игре, но это никому не нужно, и никого не впечатлит, ибо в абсолютном смысле нет ни актеров, ни зрителей. Нет никого. Ничто беспричинно, предельно хаотично и слепо.
Суть в следующем – мощь небытия бесконечно (!) превосходит любое бытие. Поэтому всё сущее устремлено к одному финалу – исчезновению. Окончательному и бесповоротному. Но, собственно, вовсе необязательно замахиваться на глобальные вещи: достаточно посмотреть на мыслящий тростник, который носит в себе весь этот мир во всем его многообразии. Достаточно маленькой травмы сосуда головного мозга, чтобы весь этот мир прекратил свое существование. И это не какая-то банальность, к которой, кажется, все мы привыкли – это то, к чему мы идем, каждый из нас, хотим мы того или нет. Тогда чего стоит всё это? Всё, чем мы живем, из-за чего переживаем, чем интересуемся.
Существует ли хоть что-нибудь, что хотя бы отчасти примиряет нас с жизнью? Чжуан-цзы считал, что это бесполезное:
«Хуэ-цзы однажды сказал Чжуан-цзы:
– Ты говоришь о бесполезном.
– С тем, кто познал бесполезное, можно говорить и о полезном, – ответил Чжуан-цзы. – Ведь земля и велика, и широка, а человек ею пользуется лишь в размере своей стопы. А полезна ли ещё человеку земля, когда рядом с его стопою роют ему могилу вплоть до Жёлтых источников?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
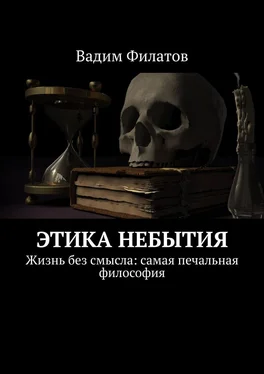
![Олег Рой - Самая печальная картина на свете [с цветными иллюстрациями]](/books/33888/oleg-roj-samaya-pechalnaya-kartina-na-svete-s-cvetn-thumb.webp)