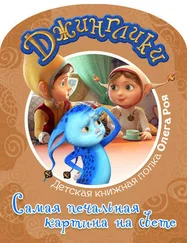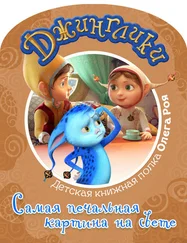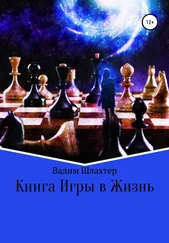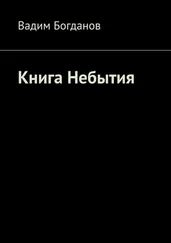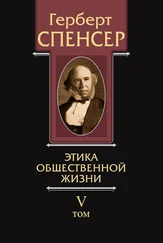В обычных случаях детерминисты и индетерминисты придерживаются единой точки зрения в области оперативной морали. Как защитники морали и те, и другие соглашаются, что этический реализм является необходимой истиной, либо объективно реальной, как полагают индетерминисты, либо «реальной» субъективно, как считают детерминисты. Без этой истины, или «истины» мы не смогли бы продолжать жить так, как жили всегда, и полагать, что быть живым – это хорошо.
Только поэты, по мнению Фридриха Ницше, способны оценить случайность. [26, с. 54] Все остальные обречены оставаться философами и настаивать на том, что существует судьба (а судьи кто?), и даже карма. – А может быть, случайности не случайны? – спрашиваем себя, наивно надеясь, что представляем собой нечто, а не ничто. Да нет, абсолютно случайны. На самом деле закономерность это более или менее долго длящаяся случайность. Тем не менее, мы проводим жизнь в напрасных попытках избежать случайностей, пока этому не положит предел внезапно оторвавшийся тромб. [48]
2.2. Человек – марионетка
Мы имеем два варианта: если события случайны, мы не контролируем их, и если мы контролируем события, то они не случайны.
И всё-таки у человека есть некое понимание, в определенной степени помогающее облегчить страдания, в том числе и страх смерти. Дело в том, что человек не может ни на что влиять. Понимание этого уменьшает его страдания.
Средневековые суфии учили осознанию того, что всё, вплоть до психических состояний и самого «я» не является достоянием человека:
«Ходжа Насреддин зашёл в лавку и к нему подошел торговец.
– Прежде всего о главном. Ты видел, как я вошёл? – спросил его Ходжа.
– Конечно, – отвечал торговец.
– А раньше ты меня встречал?
– Первый раз тебя в жизни вижу.
– Так откуда ты знаешь, что это вошёл я?» [47]
Мне всякое думается. Но откуда я знаю, что это думаю я?
«В рамках сугубо здравого смысла и личных способностей мы можем делать все что угодно в этом мире… за одним исключением: мы не можем делать наш выбор, – утверждает в этой связи Томас Лиготти. – И это действительно чистой воды пессимизм, поскольку обращает образ человека в образ марионетки. А взгляд на человека как марионетку является одной из отличительных черт пессимизма». [20]
Мысль заключается в следующем: мы не проживаем свои жизни – они проживаются. Нам только кажется, что мы что-то решаем, осуществляем выбор, намечаем движение в том или ином направлении, а на самом деле мы ничего не решаем и не определяем. Мы пребываем в иллюзии, что мы – авторы своих мыслей, но мысли приходят из источника, непостижимого и неподконтрольного нам. Одна мысль спонтанно возникает в нашем сознании и уходит, не реализовавшись в действии, а другая может по неясным причинам захватить нас и повести в каком-то направлении. Почему мы выбрали именно это действие? Мы могли перед выбором долго размышлять, советоваться, колебаться, но в конечном итоге именно данная, а не иная мысль определила наш выбор. Мы можем потом сожалеть или, наоборот, радоваться такому исходу дела, но в момент выбора имеем ли мы свободу выбора? Если оглянуться на свою жизнь и посмотреть внимательно, как всё складывалось в течение лет, что мы думали, чувствовали, как поступали, что делали или, наоборот, не делали – остаётся ли во всей этой картине место для нашего сознательного выбора? Случай, или нечто другое, имеющее иное название, плетёт ткань нашей жизни, а мы – куклы, думающие, что это мы сами всё устраиваем:
«Я сижу тут, как марионетка. И не только я; все мы марионетки. Природа тянет за веревочки, а мы думаем, что это действуем мы». (Кришнамурти) [17, с. 109]
Открывая тему несвободы волеизъявления, традиционно приведём размышления по этому вопросу Шопенгауэра. Воля, как вещь в себе, едина, но в своём проявлении она становится множеством. Время, пространство, причинность, множество относятся к миру явлений или, иначе, к миру как представлению. К воле самой по себе все эти категории неприменимы. Воля объективируется в идеи (Шопенгауэр берет на вооружение платоновские идеи), которые, в свою очередь, проявляются как видимые объекты мира. Но только нужно понимать, что речь идет не об идее конкретного, скажем, человека, а человека вообще. Или какого-то животного вообще. Или ряда каких-то повторяющихся множественных однородных явлений (а не одного явления). Далее. Воля сама по себе свободна – она не скована никакими законами, но явления воли в этом мире—представлении обязательно подчинены неумолимому закону причинности. Когда речь идет о неорганическом мире, мы говорим о причинах, – когда же речь идет о человеке, мы говорим о мотивах. Каждый человек, будучи явлением воли, имеет свой, от рождения присущий ему, эмпирический характер, который является отражением его умопостигаемого характера. Характер любого человека в существе своем неизменен, но на его эмпирические проявления оказывают влияние мотивы, которые действуют подобно причинам в мире неорганическом. Вот почему поведение человека может меняться в зависимости от ситуаций, мотивов и познания, действующих на него, но характер человека не подвержен изменениям в своей глубинной основе. Каждый из нас, замечает Шопенгауэр, пытаясь измениться, с удивлением обнаруживает, что у него ничего не получается из этой затеи – каждый из нас обречён в течение всего своего жизненного пути в разных вариантах воспроизводить самого себя. Так же, говорит он, человек с одной стороны ощущает себя внутренне свободным в своих действиях и поступках (априори), но на самом деле (апостериори) обнаруживает, что он «подчинен необходимости, что, несмотря на планы и размышления, он не изменяет своих действий и вынужден с начала до конца своей жизни проводить тот же, самим же им осуждаемый характер, как бы до конца разыгрывая принятую на себя роль». То есть, ощущения не совсем обманывают человека: он чувствует себя внутренне свободным потому, что воля, как вещь в себе, свободна – и он чувствует себя не свободным потому, что он есть индивидуализированное явление воли и как таковое строго подчинен закону причинности. Вот в общих чертах концепция свободы воли у Шопенгауэра. Но это одно из воззрений на данный вопрос, которое оставляет открытым другой вопрос: правомочно ли говорить о некоей воле, которая одна и та же в движении планет и в стремлении животного к размножению? Вообще, нужно ли усматривать скрытую от непосредственного восприятия, таинственную, необъяснимую волю за многообразием мировых явлений? Об этом мы уже говорили. Хотя концепция, на наш взгляд, интересная. А касательно рассуждений о свободе воли нам видится, что Шопенгауэр не идёт так далеко, как Балсекар и Вэй у Вэй, хотя он и отрицал свободу личной воли.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
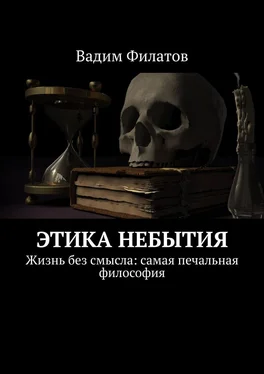
![Олег Рой - Самая печальная картина на свете [с цветными иллюстрациями]](/books/33888/oleg-roj-samaya-pechalnaya-kartina-na-svete-s-cvetn-thumb.webp)