Основной уровень собственно философский. Шопенгауэр стремится взглянуть на мир отстранённо и, по возможности, объективно. Для философа важнее всего «вопрос разрешить». Важнее любого опыта собственной жизни, сколько бы этот проклятый опыт ни довлел над нами в каждый отдельно взятый момент нашей жизни. Исходя из такого понимания, Шопенгауэр не удовлетворяется решением проблемы для одного себя. Или применительно к любому абстрактному человеку. Нет, что ни говорите, а в суициде есть этот нехороший оттенок трусливого бегства. Досмотреть спектакль абсурда до конца – ведь к этому призывает вся внутренняя сущность философа, даже если он почти полностью уверен, что всё предсказуемо и финал не сулит никаких неожиданностей. Просто досмотреть – для очистки совести, для чистоты эксперимента, так сказать.
Известно, что на письменном столе Шопенгауэра стояли фигурки Канта и Будды. Последний тоже мог спастись от страданий, просто убив лично в себе волю к жизни. Чем он успешно и занимался, пока его не спасла сельская девочка с миской риса. Однако Будду не устраивала идея исключительно собственного спасения, он пожелал не больше ни меньше как избавить от страданий весь мир. А если бы он заморил себя голодом, то и буддизма не было бы. А ведь буддизм мадхьямики ближе всех остальных философских учений подошел к пониманию пустоты.
То же самое относится и к Шопенгауэру. Для него «решить вопрос», причём не только лично для себя, но и для всего мира, было делом философской честности. Но здесь мы уже выходим на второй, «человеческий, слишком человеческий» уровень мотивации его философствования.
А причины не слишком последовательного отношения философа к проблеме самоубийства ещё более очевидны. С одной стороны Шопенгауэр был мизантропом, что, казалось бы, должно было подтолкнуть его «за роковую черту». Но, с другой стороны, согласно свидетельствам современников, он был весьма трусоват. Например, спал с пистолетом под подушкой, поскольку опасался ночных грабителей. Обратите внимание: застрелиться под горячую руку совершенно не опасался, а вот мифических грабителей – другое дело. Ещё один момент: в первой половине 19 столетия тема суицида была под запретом. Трактат Давида Юма «О самоубийстве», написанный им в 18 столетии, опубликовали только в веке двадцатом. В то время большую роль продолжали играть, в том числе, и религиозные ограничения. При этом Юм, в отличие от пессимиста Шопенгауэра, весьма логично и честно разбивает в пух и прах философские, религиозные и бытовые предрассудки относительно недопустимости суицида. Однако Шопенгауэр, помимо того, что был весьма робкого десятка, отличался преувеличенными представлениями о собственной гениальности. Достаточно вспомнить его сложные отношения с Гегелем. Впрочем, справедливости ради, следует признать, что Шопенгауэр и был гениален, но об этом никто кроме него не знал. Естественно, что мрачноватый философ в глубине души до последнего жаждал признания. Возможно, он сам себе был не готов в этом признаться, но это так. И определенное признание всё-таки в итоге пришло. А ведь если бы он совершил суицид или выступил публично с апологией суицида, то никакого признания могло и не случиться. По крайней мере, при жизни философа. Возможно, поэтому Шопенгауэр был вынужден рассуждать о самоубийстве «применительно к подлости». Да ведь, в конце концов, его частная жизнь. Большую часть которой он провёл достаточно безбедно в качестве затворника, была не так уж и плоха. Чем не жизнь, достойная философа, пусть даже и убежденного пессимиста? Это не Ницше, который был вынужден читать за весьма скудное жалование лекции по филологии в Турине. Так что у Шопенгауэра имелось достаточно причин, и человеческих и общефилософских, для того чтобы не акцентировать проблему суицида, противопоставляя последнему резиньяцию и квиетизм воли.
Есть много подтверждающей это предположение, интересной информации о жизни и личности философа. Вот что пишет, например, некий Эрнест Ватсон (не путать с коллегой Шерлока Холмса!): «Наружность Шопенгауэра биографы описывают следующим образом. Это был человек несколько ниже среднего роста, крепкого телосложения, стройный и с громадной головой; но особенно замечательны были его светлые, блестящие, голубые глаза, обращавшие на себя, во время многочисленных его странствований, внимание людей, совершенно ему незнакомых. Одни находили в нем некоторое сходство с Бетховеном, другие утверждали, что лицо его, и в особенности очертание рта, напоминало Вольтера. Одевался он всегда чрезвычайно изящно, сохранив, впрочем, вопреки современным модам, покрой платья начала девятнадцатого столетия. Малообщительный и в молодости, он, после своих университетских неудач, стал еще больше чуждаться общества. Поселившись окончательно во Франкфурте-на-Майне, он старался держаться как можно дальше от местных интересов, мало сходясь с окружавшими его людьми. Он терпеть не мог не только светских, но и обыденных разговоров; но когда ему приходилось говорить в обществе, он никогда не говорил отвлеченными фразами: его разговорная речь была так же проста, наглядна, ясна, точна и жива, как и его слог. Сумев избежать мелочных интересов, забот, радостей и огорчений семейной жизни, относясь довольно безучастно к явлениям жизни общественной, он сосредоточивал все силы своего ума на том, что в древности называлось диалектикой, то есть на искусстве вести разговор исключительно в области чистого мышления. Образ жизни Шопенгауэр вёл необыкновенно правильный. Если он признал что-нибудь разумным и ввёл в свой домашний обиход, он уже не переставал придерживаться того с педантической строгостью. Бывают такие люди, которые не умеют извлекать пользы из своего опыта; но для Шопенгауэра всякий новый опыт, сделанный в каком бы то ни было направлении, становился руководящим началом в дальнейших его действиях, и он продолжал идти в данном направлении с железной последовательностью. Шопенгауэр вставал летом и зимою между 7 и 8 часами утра, причем пил кофе, который сам себе готовил; его экономке было строго-настрого приказано даже не показываться по утрам в его рабочем кабинете, так как он считал утренние часы, когда мозг достаточно отдохнул, самым лучшим рабочим временем, и не терпел в этом отношении ни малейшей помехи. Он усидчиво работал до половины первого, затем около получаса играл на флейте, и ровно в час отправлялся в ресторан обедать: во всю свою жизнь он не заводил у себя домашнего хозяйства и оставался верен своим ресторанным обедам. Но в общих застольных разговорах он почти никогда не принимал участия. После обеда он возвращался домой, пил кофе, отдыхал с часок, и затем занимался сравнительно более легким чтением. К вечеру он отправлялся гулять за город, выбирая преимущественно самые уединенные дорожки; только в дурную погоду он гулял по городским бульварам. Походка его до самой старости оставалась легкой и эластичной. Он любил гулять один, чтобы быть возможно ближе к природе и возможно дальше от человеческого общества». [10, с.32]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
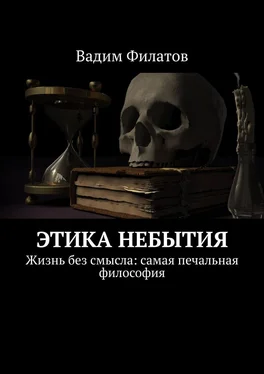
![Олег Рой - Самая печальная картина на свете [с цветными иллюстрациями]](/books/33888/oleg-roj-samaya-pechalnaya-kartina-na-svete-s-cvetn-thumb.webp)








