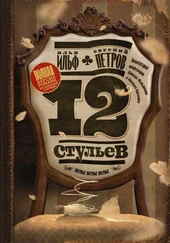В случае ее разгрома прогнозировалась и перспектива массовых восстаний по всему Китаю. Они бы распространились и далее. Советские лидеры ожидали «пожар в колониях».
Это могло бы дестабилизировать политическую ситуацию во многих странах. Соответственно, иными стали бы и возможности советского влияния на мировую политику.
В марте 1927 года кантонские войска заняли Шанхай. А там уже стремительно разрасталось восстание. Руководили им, разумеется, коммунисты. Сеттльмент был в опасности.
Но гоминьдановцы, вопреки ожиданиям союзников и советских помощников, не поддержали шанхайских повстанцев. Их лидер генерал Чан Кайши санкционировал подавление восстания. Не подчинившихся генеральским требованиям коммунистов расстреливали.
К 14 апреля восстание было фактически подавлено. Расстрелы коммунистов продолжались в городах, контролируемых гоминьдановцами.
Коммунисты перешли к подпольной работе. Под угрозой оказалась дипломатическая миссия СССР. Это был явный провал. Но маскировался он, по обыкновению, инвективами в адрес недавних союзников. 15 апреля на первых полосах газет – статьи о «кровавой бане в Шанхае».
Тон задавала статья в «Правде». Заголовок указывал на радикальное изменение политических ориентиров: «Шанхайский переворот» [217] См.: Шанхайский переворот // Правда. 1927. 15 апр.
.
Можно спорить, в какой мере заголовок соответствовал реальности. Но словосочетание «шанхайский переворот» вскоре стало термином. Характерно, что позже Троцкий отметил в мемуарах: «Политика Сталина-Бухарина не только подготовляла и облегчала разгром революции, но, при помощи репрессий государственного аппарата, страховала контрреволюционную работу Чан Кайши от нашей критики».
Троцкий именовал «репрессиями государственного аппарата» отстранения оппозиционеров от сколько-нибудь значимых должностей. Более серьезные меры применялись еще крайне редко.
Согласно Троцкому, генсеком и его окружением не замечена была опасность провала. Еще в апреле, выступая на собрании московского партийного актива, Сталин «защищал политику коалиции с Чан Кайши, призывал доверять ему. Через пять-шесть дней после того Чан Кайши утопил шанхайских рабочих и коммунистическую партию в крови. Волна возбуждения прошла по партии. Оппозиция подняла голову» [218] См.:Троцкий Л. Д. Моя жизнь. М.: Книга, 1990. Т. 2. С.275.
.
Лидеры оппозиции пытались вступить в диалог с противником. Даже обратились к ЦК партии официально, предупреждая о неминуемой, по их словам, угрозе: «Китайское поражение может самым непосредственным образом отразиться и на судьбе СССР в ближайшее же время. Если империалистам удастся на длительное время «усмирить» Китай, – они двинутся на нас, на СССР. Поражение китайской революции может чрезвычайно приблизить войну против СССР» [219] См: Архив Троцкого: Коммунистическая оппозиция в СССР: 1923–1927 / Ред. Ю. Г. Фельштинский. М.: «Терра» – «Terra», 1990. Т.З. С.61.
.
Опасность, настаивали оппозиционеры, усугублялась еще и тем, что внутренняя политика снижает обороноспособность страны: нэп множит и усиливает внутренних врагов, а они будут консолидироваться с внешними. Значит, в случае интервенции неизбежны восстания.
Апологеты сталинско-бухаринской «генеральной линии» попали в сложное положение. Основа аргументации оппозиционеров – базовая модель советской идеологии: «осажденная крепость» [220] См., напр.: Одесский М., Фельдман Д. Поэтика власти: Тираноборчество. Террор. Революция. М.: РОССПЭН, 2012. С. 23–27.
.
Именно такая модель и оправдывала любые чрезвычайные меры. Если страна – «осажденная крепость», то население играет роль гарнизона, чье существование непосредственно зависит от способности и готовности выполнять распоряжение командования.
Конечно, аргументы «левой оппозиции» можно было бы легко опровергнуть. Ссылаясь, к примеру, на то, что «мировая революция» вообще маловероятна и «шанхайский переворот» означает лишь безвозвратную потерю средств, потраченных на «большевизацию» Китая, эта неудача локальна и отнюдь не чревата интервенцией европейских государств, равным образом, нет и угрозы со стороны противников режима в СССР.
Однако при такой аргументации правительство отказалось бы от собственной политической аксиоматики – модели «осажденная крепость». Вот почему и пришлось обходиться экивоками.
Сталинские пропагандисты утверждали, во-первых, что «мировая революция» остается актуальной задачей, правда, решить ее удастся не вскоре. Так ведь и раньше победа была не близка.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Илья Ильф Двенадцать стульев [litres, Полная версия романа] обложка книги](/books/419812/ilya-ilf-dvenadcat-stulev-litres-polnaya-versi-cover.webp)

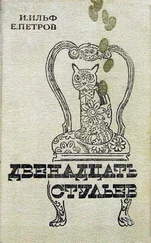

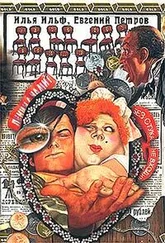
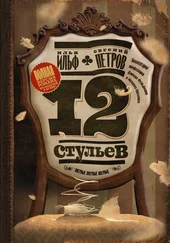
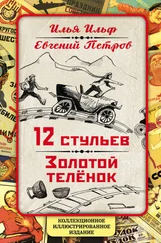
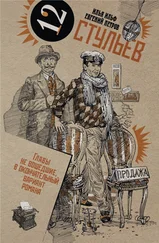
![Антон Макаренко - Педагогическая поэма. Полная версия [litres]](/books/422565/anton-makarenko-pedagogicheskaya-poema-polnaya-versi-thumb.webp)
![Виктор Илюхин - Путин. Правда, которую лучше не знать. Полная версия [litres с оптимизированной обложкой]](/books/432088/viktor-ilyuhin-putin-pravda-kotoruyu-luchshe-ne-znat-thumb.webp)