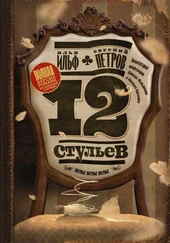Цель понятна. Условием публикации воспоминаний о советских классиках была соотнесенность повествования с актуальными идеологическими установками. Потому в случае ровесников Ильфа аксиоматически подразумевались не только готовность советскому режиму служить, но и желание защищать его.
Был ли таким Ильф – неизвестно. Однако считается, что о своей красноармейской службе он сам написал. 1 декабря 1923 года в «Гудке» опубликован его рассказ, считающийся автобиографическим: «Рыболов стеклянного батальона» [163] См.: И<���льф И. А.>. Рыболов стеклянного батальона // Гудок. 1923. 1 дек.
.
Время действия – лето 1919 года. Железнодорожную станцию Гранитную охраняют шестьдесят срочно мобилизованных красноармейцев. Все они ранее считались от службы освобожденными, едва ли не каждый очки носит. Отсюда и прозвище: «Стеклянный батальон! – сказал комендант Гранитной, когда увидел нас».
Меж тем противник был неподалеку. И внезапно атаковал Гранитную. «Стеклянный батальон» уцелел случайно. Неподалеку от станции удил рыбу в пруду один из сменившихся с дежурства караульных. Обнаружив приближавшихся кавалеристов, несколько раз выстрелил, благодаря чему красноармейцы успели занять оборону. Из-за страсти к рыбалке товарищи часто посмеивались над ним, а рыболов спас их – ценой своей жизни.
Автобиографичность тут сомнительна. Повествование от первого лица – не доказательство. Тем более, что был и другой, не публиковавшийся при жизни Ильфа рассказ о спешно мобилизованных – «Стеклянная рота» [164] См., напр.: Ильф И. Стеклянная рота // Ильф И. Путешествие в Одессу… С. 131–152.
.
Время действия – весна 1919 года. Советские войска продвигаются к Одессе. В городе объявлена мобилизация, организованы и облавы. Таким образом загнаны в казармы чуть ли не все ранее безоговорочно освобожденные от службы из-за дефектов зрения. Новобранцы в большинстве своем носят очки, соответственно, возникает и прозвище – «стеклянная рота».
Подразумевается, что она в принципе небоеспособна. Да и не успевают ее ни в бой послать, ни даже обучить: советские войска занимают город внезапно. Их противники выглядят, скорее, посмешищем: так, не успевший сбежать командир «стеклянной роты», сорвав погоны, заявляет, что он – «скрытый большевик».
Можно предположить, что и этот рассказ автобиографичен. Не менее вероятно, что оба соотносятся только с литературой.
Гражданская война – загадочный период. Смутное время было, далеко не каждый ильфовский ровесник и земляк, оставшийся в советском государстве, мог откровенно рассказывать, где служил, с кем воевал или не пожелал воевать.
О политических симпатиях/антипатиях будущего писателя в период 1917–1920 годов судить трудно. Нет достоверных источников.
Разве что монархизм исключен – в силу биографического контекста. Сторонником же Временного правительства, упразднившего сословное неравенство и конфессиональную дискриминацию, Ильф если и стал, так ненадолго.
Большинство его знакомых негативно относилось к режимам, установленным войсками украинских националистов различных мастей, скептически воспринимало австро-германскую оккупацию и французскую интервенцию. Допустимо, что Ильф разделял такого рода мнения.
Программа же Добровольческой армии оставалась невнятной, зато на практике хватало эксцессов, включая повальные грабежи и еврейские погромы. Симпатии Ильфа тут маловероятны.
Достоверно известно только, что работал он с юности. И в период гражданской войны тоже – при всех режимах, быстро сменявших друг друга.
Работал на крупных одесских предприятиях, пока не закрылись. А позже, как большинство земляков и сверстников, нанимался куда придется, выживал, помогая выжить родственникам.
Мировая война и гражданская словно бы слились в ильфовских литературных биографиях. Он приводил лишь перечень должностей, выстраивая упомянутую дочерью «пунктирную линию». Только вряд ли скромность – единственная причина отказа от конкретизации. Не менее вероятно, что соображениями осторожности руководствовался.
Осторожность пришлось ему проявлять вскоре после того, как войска РККА вновь заняли Одессу 7 февраля 1920 года. Новая эпоха с катастроф начиналась.
Город буквально вымирал от голода и холода: частное предпринимательство оказалось под запретом, а у новых администраторов не было ни опыта, ни возможностей, чтобы наладить централизованное снабжение продовольствием и топливом. Деньги практически обесценились, единственной гарантией выживания стал паек, который более или менее регулярно выдавали работавшим в созданных при советской власти учреждениях и на уцелевших предприятиях. Но получить там работу было непросто. Сотрудничавшие ранее с организациями, признанными антисоветскими, обычно получали отказ. Если даже таких принимали, удержаться им было трудно – при весьма частых сокращениях штатов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Илья Ильф Двенадцать стульев [litres, Полная версия романа] обложка книги](/books/419812/ilya-ilf-dvenadcat-stulev-litres-polnaya-versi-cover.webp)

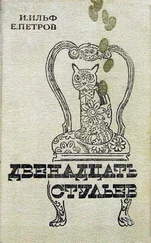

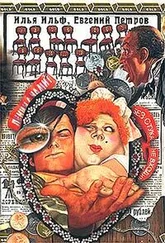
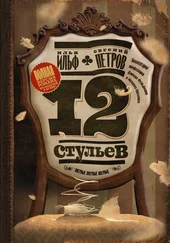
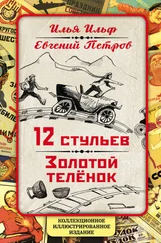
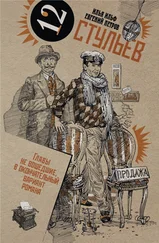
![Антон Макаренко - Педагогическая поэма. Полная версия [litres]](/books/422565/anton-makarenko-pedagogicheskaya-poema-polnaya-versi-thumb.webp)
![Виктор Илюхин - Путин. Правда, которую лучше не знать. Полная версия [litres с оптимизированной обложкой]](/books/432088/viktor-ilyuhin-putin-pravda-kotoruyu-luchshe-ne-znat-thumb.webp)